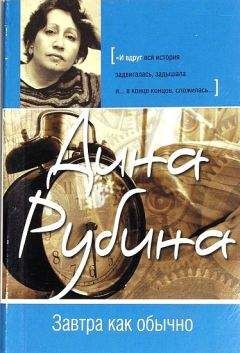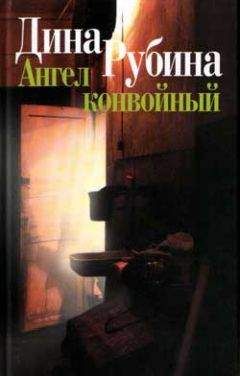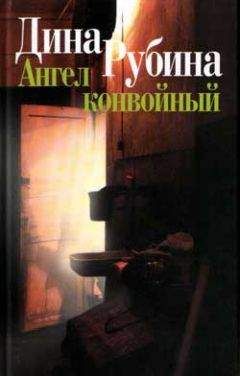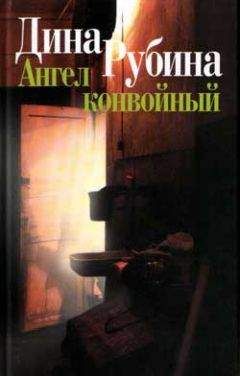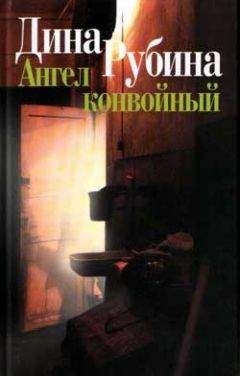Дина Рубина - Коксинель
Еще минуты три, пока они были видны, я со странным спазмом в груди, с окаменевшими плечами и мгновенно онемевшим затылком наблюдала этот победоносный проход по брусчатке мостовой. Потом они скрылись, а марш все продолжал потряхивать занавески, пока не растворился в нежно-рассеянной итальянской песне…
Ничего, сказала я себе, это ничего… Все подростки во всех странах непереносимы…
Я вспомнила похожую группу юношей в прошлогодней полуночной электричке, по пути из Бонна в Кельн. Они ввалились на одной из остановок – на полуфразе оглушительного марша, в мокрых от дождя куртках, в одинаковых вязаных шапочках и в одинаковых шарфах, замотанных вокруг шей. С первого взгляда на них было ясно, что это болельщики выигравшей только что футбольной команды. Группу возглавлял мужчина лет сорока пяти, не умолкавший ни на минуту: поскольку часть ребят взбежала и уселась на втором этаже вагона, он немедленно организовал бурное соревнование – кто кого перепоет. Через считаные минуты вагон электрички превратился во вместилище пытки, в звуковую душегубку: встав на площадке между этажами, так, чтобы видеть и ту и другую группу подопечных, дядька, сдвинув со вспотевшего лба вязаную красно-желтую шапочку, дирижировал маршеобразным гимном – как я догадалась, фанатов данной футбольной команды.
Группа нижних выкрикивала рубленый ритм куплета и сразу, стараясь перепеть товарищей, этот куплет повторяли наверху. Тогда задетые за живое нижние напрягали связки и выдавали оглушительный второй куплет. Верхние отвечали куда более громким ором. Побагровев, нижние выдавали совсем уж неслыханным ревом следующий куплет под азартным управлением пучеглазого идиота… В ответ верхние… Словом, на третьем куплете пассажиры стали подниматься и переходить в другие вагоны… Я же не могла этого сделать: минут через двадцать меня должны были встретить в Кельне именно у этого вагона.
Обмотав голову шарфом, я подняла воротник куртки… а на восьмом куплете бесконечного марша просто зажала ладонями уши… Ничего, повторяла я себе в отчаянии, ничего, все футбольные болельщики во всем мире непереносимы… ***А вообще мне нравятся немецкие уютные поезда: бесшумно разлетающиеся перед тобой двери, всегда исправные кнопки и рычажки, зеркала, ковровые дорожки, чистота клозетов… Нравится холодноватая учтивость пассажиров… В своих многолетних поездках по Германии я намотала столько сотен километров, перевидала столько лиц всех возрастов, напридумывала столько биографий и даже выслушала несколько душевных историй от словоохотливых попутчиков, не представляющих, что человек может совсем не понимать немецкого. И до известной степени они правы: идиш, на котором говорили дома мои бабушка с дедом, плюс школьный немецкий, казалось бы, выброшенный из памяти за ненадобностью, в сумме дают интуитивное, беглое ощупывание произнесенной фразы, понимание общего смысла речи собеседника.
На этот раз моими попутчиками в купе оказались двое молодых людей, по-видимому, студенты. Вначале я даже приняла их за брата и сестру, так они были похожи – оба высокие, тонкие, с вьющимися рыжеватыми волосами, оба веснушчатые. Усевшись в креслах друг против друга, они сразу достали папки с листами – позже, искоса бросив на рукописи взгляд (не могу обойти вездесущим писательским взглядом ни одну пачку бумаги в чьих бы то ни было руках), я по готическим шрифтам определила, что это копии со средневековых манускриптов. Судя по всему, ребята готовили курсовую. И всю дорогу, с разложенными на коленях бумагами, они негромко переговаривались, что-то уточняя, сверяясь и подправляя карандашом на листах. Всю дорогу, отвернувшись к окну, чтобы не смущать их, я видела в темном стекле, как несколько раз он брал ее руку, с зажатым в ней карандашом, и подносил к своим губам, и говорил что-то мягким голосом, с этими, дивно скользящими «лихь» и «дихь» на лисьих хвостах гибких рокочущих фраз… Ну вот какие они милые, думала я, они же ни в чем, ни в чем не виноваты…
Мне было уютно, тепло, мне хорошо было с ними, я с редким умиротворением вслушивалась в немецкий и… и ни разу не оглянулась…
***В маленький туристический городок на Рейне, на родину «рислинга» и вообще в центр рейнского виноделия, нас с Мариной Москвиной вывезли, вытянув из толчеи Франкфуртской книжной ярмарки, мои приятели Алла и Дима, экскурсоводы, люди в русской Германии известные.
Замечательно везло мне в той поездке на погоду! Дни один за другим выкатывались как орехи – золотисто-багряные, сухие, полные звуков и запахов. В том году особенно нарядно цвела герань, свешивалась целыми кустами с длинных балконов, с подоконников; в палисадниках выглядывала цветными колпачками петунья, и хозяйки кое-где уже высадили бледно-сиреневые и рыжие суховатые пучки вереска «эрика».
Оставив машину на одной из улочек, мы побрели вверх, по направлению к площади, мимо кукольных фахверковых домиков в объятиях зеленого и багряного плюща, мимо серой каменной башни, на верхней площадке которой бронзово поблескивала виноградная гроздь колокольчиков, мимо бесконечных туристических магазинов и лавок, мимо бочек с молодым вином, которым угощали туристов.
Алла и Дима, наши гиды, по пути рассказывали всякие милые исторические байки, подробно объясняли разницу между традиционной черепицей и сланцевым шифером крыш…
– В народе черепицы называют Віеberschwanz, – говорил Дима, – так что можно сказать, что немцы кроют крыши бобровыми хвостами… А в альпийских городках еще стоят очень старые дома, крытые желтопесчаным золенхофенским сланцем с реки Альтмюльталь…
К сожалению, подобные важные сведения немедленно и даже свирепо выбрасывает моя память, как вышибала в баре вышвыривает за дверь случайно забредшего выпивоху. Причем, как и тот вышибала, моя память полагается только на собственное мнение и какие-то свои резоны. В результате, где бы я ни побывала, со мной навсегда остается лишь это: ящероподобные крыши, вздыбленные сизо-черным сланцем, бочки с вином, ярко-красная и бело-розовая герань, и лица, лица, лица… например, лицо моей Марины, с которой мы встретились во Франкфурте после очередной разлуки.
Погуляв, мы выбрали столик в одном из кафе на маленькой веселой площади, словно бы выстроенной в каком-нибудь своем тринадцатом столетии именно в предвидении этих будущих туристических толп, уселись, заказали луковый пирог с чаем.
Напротив кафе, на другой стороне улицы, трудился шарманщик. Краснолицый, плотный, с седой шкиперской бородкой, в картузе и с красной косынкой на шее, он то и дело обращался любовно укоризненным тоном к кому-то, кто сидел у него под ногами. Я выглянула из окна: он разговаривал с белой болонкой, вокруг шеи которой вместо поводка была повязана точно такая же, как у него, красная косынка.
Мы ожидали, когда принесут заказ, и поглядывали на улицу. Шарманка играла и веселые разухабистые, и щемящие мелодии, вальсы, фокстроты, какие-то бравурные марши… Старик налегал на ручку, затем вздымал ее, и это движение придавало мелодиям нечто волнообразное, неуловимо корабельное. Время от времени он оставлял шарманку – это собака поднималась на задние лапы, требуя ласки, и он склонялся к ней или вовсе опускался на корточки и трепал псину по спине, упирался лбом в ее покатый шерстистый лоб, что-то приговаривая.
Когда шарманка умолкала, псина забегала в кафе и сновала меж столиками, приглашая посетителей угостить собачку чем бог послал. Мы, конечно, угостили…
Время от времени туристы, чаще японские, подходили к шарманщику и просили покрутить ручку. Он принимал в широкую красную ладонь монетку и с улыбкой уступал свое место.
Странно много вокруг было инвалидов в колясках.
– Здесь недалеко, в горах, есть потрясающий санаторий, – пояснила Алла, – всемирно известный, опорно-двигательный… Люди со всех стран съезжаются… Недешево, конечно, но эффект потрясающий… Я там тоже однажды проходила курс массажа. Все началось с жуткого остеохондроза…
– Погодите, – сказала Марина, поднимаясь, – я сейчас…
И дальше в открытую дверь и в окно кафе мы наблюдали, как она подбежала к старику, что-то сказала, и он уступил ей шарманку. Правой рукой наяривая мелодию, левой она приобняла шарманщика за плечи, они улыбались, и в этом полуобъятии, оба – голубоглазые блондины, оба румяные, с ровными белыми улыбками – казались родственниками, а уж Марина, счастливица, и впрямь всех ощущает родней…
Я сидела за столиком, смотрела на них в окно и тщетно пыталась совладать с внезапным, как удар, – как всегда ожидаемый, и все-таки, неожиданный приступ эпилепсии, – накатившим горьким чувством добровольной отверженности, извечной отстраненности, – в который раз ощутила этот горб, не дающий разогнуться, эту память, которую отшибить невозможно, ибо она не в голове даже, а в токе крови, в тоннах прокачиваемой моим сердцем крови…