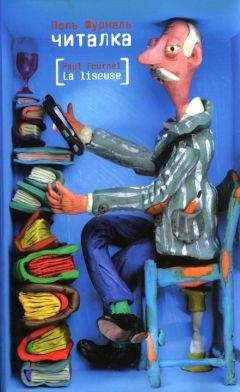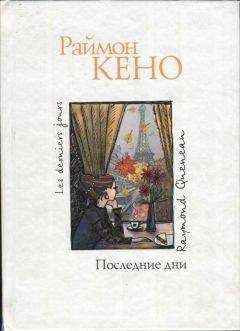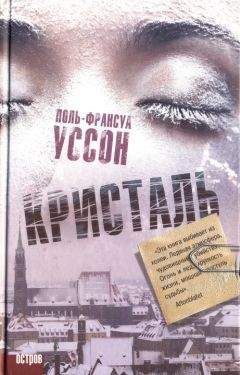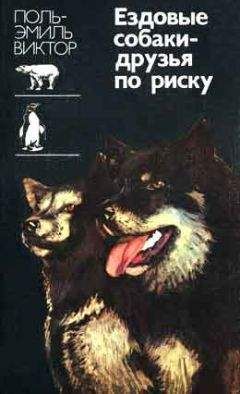Поль Фурнель - Маленькие девочки дышат тем же воздухом, что и мы
Она запускает правую руку в пакет и бросает крошки: горсть — на север, горсть — на запад, на юг, на восток. Голуби набрасываются на корм. Они несутся, то по воздуху, то по земле, изо всех уголков парка. И откуда только узнали? Те, что прилетают издалека, пикируют на своих более проворных собратьев, бьют их крыльями и клюют.
Каждая крошка — поединок.
Девочка узнает своих любимцев: толстых прожорливых серых, более скромных пятнистых и голубку, такую изящную и светлую, что она могла бы сойти за горлицу; даже обнаруживает двух новеньких, коричневых, прилетевших с соседних улиц.
Она бросает четыре дополнительных пригоршни подальше и разбрасывает крошки короной, вокруг своих ног. Птицы кидаются под ноги.
Потом стоит неподвижно среди своих голубей; только что их было двадцать, потом тридцать, вот их уже пятьдесят, а через две минуты их будет сто. Она наблюдает и ждет.
Из нескольких крошек, предусмотрительно оставленных в правой руке, она снова выкладывает корону вокруг своих ног. Голуби жмутся к ее туфлям.
Внезапно, ни слова не говоря, она бросается вперед: два раза сильно топает ногой. Испуганные голуби взмывают в небо пестрым облаком.
Она закрывает глаза.
Сначала летящие песчинки, покалывающие икры, затем подол платья, вздувающийся от хлопающих крыльев, ласковое дуновение по рукам и лицу, развивающиеся по ветру волосы и обволакивающий шум, сухой и шелковистый, сквозь который то и дело доносятся резкие птичьи крики. Сильный испуг, дрожь по телу. И счастье, когда тебя касается перо, дотрагивается клюв.
Они поднялись в воздух, над ее головой, затем опустились поодаль, на расстоянии нескольких шагов.
Она открывает глаза и улыбается.
Затем стоит какое-то время неподвижно и запускает правую руку в пакет.
Срыв
Дверь в ванную резко открывается и громко хлопает. Стакан на полочке под зеркалом вздрагивает, качается и падает. Зубная щетка летит в раковину, а стакан разбивается о кафельный пол.
Клементина сует указательный палец в рот, морщится, ощущая под ногами осколки. Вынимает палец, осматривает. Капелька крови выступает из-под ногтя, прищемленного дверью. Она открывает кран. Кровь капает в раковину и растворяется в холодной воде.
Не оборачиваясь, Клементина цепляет носком ноги скамеечку, забирается на нее, чтобы вырасти до уровня зеркала. Затем встает во весь рост. Осколки стакана скрипят под деревянными ножками. Она садится на край раковины и чуть не упирается носом — каких-нибудь два сантиметра — в зеркало.
А все из-за этой утренней истории с гольфами, только и всего, а еще из-за — белее белого — круглого воротника поверх голубого свитера и из-за складок на юбке, ботинок с плоской подошвой и ранца. Ждешь год, два, семь, восемь, а потом срываешься; даже если ты спокойная от природы и хорошая сама по себе.
Она берет большим и средним пальцами, — указательный остается задранным кверху, пока не перестанет идти кровь, — маленькую щеточку. Она плюет, — как это не раз на ее глазах делала мама, — на кружочек туши в пластмассовой коробочке, скребет по нему щеточкой, чтобы набрать побольше, и подкрашивает ресницы. Ее рука дрожит, щеточка залезает на роговицу, глаз начинает слезиться. Она продолжает.
Старость — это когда каждое утро, зевая, говоришь: «Ну и рожа же у меня», после чего выходишь из ванной накрашенная, сияющая и мужественная, как индейский воин.
От жирного черного карандаша лицо расползается. Одним росчерком он закрашивает веко. Жирная черта справа, жирная черта слева, рука дрожит. Отодвинемся назад, чтобы все подровнять, и посмотрим. Из мрачных, черных, как уголь, провалившихся орбит выглядывают белки крошечных глазок. Хорошо. Прибавилось лет пять.
Старость — это когда уже не надеваешь капюшон, если идет дождь.
Румяна. Два толстых тюбика. Отодвинемся. Слишком румяно. Получается, что пышешь здоровьем, а от этого сразу представляешь себе маленькую девочку и подразумеваешь деревенщину. Разбавляем белилами, которые расплываются до самого носа. Еще лет десять.
Старость — это когда книжки и тетрадки можешь стягивать ремнем.
Помада. Она выбирает саму яркую, смесь кровавой и оранжевой. Мажет густо-прегусто. Губы раздуваются, растягиваются, сползают на подбородок, нос вылезает вперед. Еще лет пятнадцать. Достаточно.
Старость — это когда у тебя настоящие сапожки и гольфы из них не торчат.
Волосы ниспадают на плечи вялыми буклями. Она хватается за них и нещадно взбивает до тех пор, пока не получается взлохмаченного ореола вокруг заляпанного лица. Отодвинемся. Похожа на ведьму.
Она слезает со скамеечки.
Она больше не потерпит, чтобы до ее головы нежно дотрагивались рукой, будто отмеряя, насколько она выросла.
Стеклянные осколки хрустят под кедами.
Она подходит к шкафу, в котором ее мать вешает одежду. Поверх свитера девочка надевает лифчик. Сверху натягивает комбинацию, затем платье. Она в нем тонет. Сверху она надевает второе платье, третье и, под конец, четвертое, нарядное, муслиновое, в котором ее мать ходит вечером в гости.
Учительница: «Моя славная Клементиночка».
Отец: «Моя ягодка».
Так и хочется их укусить.
Она ищет туфли на высоком каблуке, голубые, лакированные. Если не снимать кеды, они ей будут в самый раз. Белый платок из ящика отца. Посмотрим на себя в зеркало. В путь.
Она станет певицей, от этой работы быстро стареют.
Дверь в ванной хлопает, каблуки стучат по выложенному плиткой полу в коридоре, хлопает входная дверь. Идет дождь.
Она сворачивает на набережную. Идет вдоль моря. Ноги подворачиваются, она спотыкается. Ускоряет шаг. Идет, не останавливаясь.
Мокрые волосы липнут к щекам. Она смотрит прямо перед собой. Вода, стекая по загримированному лицу, оставляет глубокие борозды. Красные, белые и черные капли пачкают отворот платья.
Намокшая ткань липнет к коже. Она откидывает прядь. Ей так жарко, что под летним дождем от одежды идет пар.
— Я буду идти до тех пор, — говорит она сквозь зубы, — пока у меня не вырастут груди.
Полянка
He задумываясь, она мочила языком кончик указательного пальца и подбирала в своей тарелке крошки от пирога. Она уже наелась, да и крошки терпеть не могла, но что же делать, если очень нравиться погрызть? Крошки хрустели на зубах, затем медленно таяли во рту.
Ставни были закрыты, по комнате гуляли сквозняки — но все равно было жарко.
Бабушка подняла руку, чтобы заколоть шпилькой шиньон; на блузке, подмышкой, обнаружился круглый белесый развод. Дедушка заснул прямо над тарелкой, в которой скукожились яблочные очистки. Его голова покачивалась и каждый раз вместо того, чтобы упасть вперед или откинуться назад, сонным рывком возвращалась на место. Он приоткрыл рот и немного присвистывал, вдыхая. Внучка находила его ужасно старым.
Она немного сместилась вперед, чтобы попа отлипла от пластмассового стула. Носок левой ноги зацепился за половик.
Бабушка смотрела телесериал.
Телевизор отбрасывал на ее лицо голубые блики. Ее взгляд так глубоко погружался в изображение на экране, что начала кружиться голова. История подходила к концу, и молодая героиня должна была вот-вот найти свое счастье и — самое главное — дождаться героя, который поцелует ее прямо в губы. Смотреть на это Аделине совсем не хотелось.
Она оперлась на край стола и достала ногой до земли. Шлепанец громко хлопнул об пол. Она испуганно покосилась на бабушку, но та была слишком увлечена, чтобы выговаривать ей за оставленную в тарелке корку пирога. На всякий случай — а вдруг поцелуй уже состоялся? — она бросила последний взгляд на экран и выскользнула из комнаты. Передники всегда висели на гвозде за кухонной дверью; туда же повесила свой и она. В коридоре, у коврика, она скинула шлепанцы. Чтобы не нагибаться и не возиться с уже завязанными шнурками, она натянула кеды, смяв задник. Дверь открылась с трудом, пришлось со всей силы налечь на массивную дверную ручку.
Потянув дверь, она мельком взглянула на себя в зеркало, висевшее над вешалкой. Ее светлые волосы были настолько короткие, что всегда сохраняли свою форму, зато от утомительной процедуры натягивания кед порозовели щеки. Краснела она в два счета.
Дверь, давно просевшая до кафельного пола, скрипнула.
— Ты куда?
— Сейчас вернусь.
От яркого света она зажмурилась и на какое-то время застыла на крыльце. Воздух обжигал горло, а от дороги поднимался ужасный запах расплавленного асфальта. Она открыла глаза. Деревенская площадь была пуста. Солнце разрезало все окружающее на светлые и темные куски; почти все ставни были закрыты. Весь мир ожидал поцелуя. Сейчас героиня упадет в объятия героя, их губы встретятся, и зрители с легким сердцем пойдут мыть посуду. То, что произойдет у героев во рту, навсегда останется нераскрытой тайной.