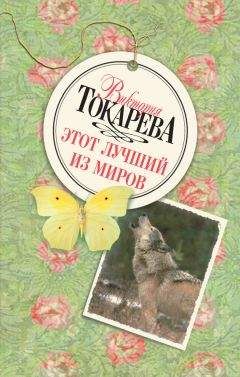Виктория Токарева - Центровка
Не Онисимов хотел что-то сказать, но не смог. Повернулся и, как слепой, вышел из палаты. Мне показалось: он пошел и заплакал. Он даже меня забыл в отчаянии.
Игла жалости пронзила меня насквозь.
— Ну пожалуйста… — тихо повторила я и села на край постели.
Я села так, чтобы попасть в направление ее взгляда. В прямом смысле слова: попасться ей на глаза. Она увидела меня в белом свадебном платье и валенках и, видимо, решила, что это явилась Смерть в таком странном обличье, но даже Смерть ее не заинтересовала.
— Я понимаю вас, — горячо зашептала я. — Понимаю… Вы так долго мучились… Непонятно, как вы вообще жили. Вы устали и хотите отдохнуть любой ценой. Пусть даже вечным сном. Вы хотите отдохнуть от боли, от людей, от всего, что есть жизнь, потому что ваша жизнь — это сплошные атаки. Невозможно так давно и так долго страдать. Вы надорвались. В вас лопнула пружина. Я понимаю. Но, Алла… Вы же не одна. За вами стоит ваш врач, который вас починил. За вами сотни, тысячи больных людей, для которых необходимо ваше выздоровление как гарантия. За вами Дебейки, который вас ждет, и вся Америка. Там ведь тоже люди болеют. Там, между прочим, такая операция стоит полтора миллиона долларов. Ее может позволить себе только миллионер, да и то не каждый. А вам сделали бесплатно. А вы еще… кочевряжитесь. Ну хорошо, вам, может быть, наплевать на человечество, и на Америку, и на Дебейки, вы их не знаете. Но ведь за вами близкие люди. Ваш муж сидит сейчас, не спит, с ума сходит. Да вы просто не имеете права… Вы меня слышите?
— Кто вы? — тихо спросила Алла.
— Никто, — сказала я.
— Вы мне не кажетесь?
— Нет. Я есть.
Я низко наклонилась над Аллой, и мои очки упали на ее лицо. Алла оторвала от груди свою руку, поднесла к моим очкам и надела их на себя.
— Действительно… — проговорила она. — Вот теперь я вас вижу.
Она меня видела и слышала, и это вдохновило меня до озноба. Я совершенно забыла о себе и о той причине, о которой я не хотела распространяться. Была только эта палата, эти проявившиеся глаза и Не Онисимов за стеной.
— Нельзя думать только о себе… Только себя любить. Только себя жалеть. Иначе нарушится центровка.
— Что нарушится? — спросила Алла.
— Все нарушится. Во всей Солнечной системе. Вы не имеете права!
— Что вы от меня хотите? — слабо спросила Алла.
— Чтобы вы пошли в туалет.
— Зачем?
— Покурить.
— Мне не хочется. И я не могу.
— А вы не знаете: можете вы или нет. Человек не знает своих возможностей.
Я обняла Аллу за плечи и стала ее приподнимать. Она ухватилась за мою шею и стала мне помогать.
— У меня клапан не оторвется? — спросила Алла. Она испугалась за свою жизнь, и это был хороший симптом.
— Не оторвется, — заверила я. — Но удивится.
Она встала. Мы обнялись и медленно вышли из палаты в коридор. На мне было белое свадебное платье, на Алле белая больничная рубаха с печатью на спине. Мы медленно продвигались, обнявшись, как привидения, и мне казалось, что если мы подпрыгнем, то взлетим и поплывем. Ее слабость перетекала в меня, а в нее — моя радость, та самая, которую я люблю больше всего на свете и от которой мне хотелось бы умереть.
Но сейчас мне не хотелось умирать. Мое деловое настроение пропало, улетучилось. Я хотела одного: идти вот так, обнявшись, и, как бабочку в ладошке, нести эту чужую хрупкую жизнь.
Коридор был по-прежнему пуст. Медсестра кемарила на диванчике. Уютно тикал будильник, и его мерное тиканье сверчка разносилось по всему коридору.
Из кабинета вышел Не Онисимов. Увидел нас.
Офонарел, вот уж действительно по-настоящему. У него сегодня был день офонаренный.
— Добрый вечер, — поздоровалась Алла, хотя было уже почти утро.
— А… что вы здесь делаете? — только и мог вымолвить Не Онисимов.
— Покурить идем, — сказала я.
Не Онисимов метнулся к нам. Взял руку Аллы, стал слушать пульс. Потом обернул ко мне потрясенное лицо и спросил:
— Слушайте, а что вы сделали?
Зазвонил будильник. Было шесть часов утра. Время первых уколов.
Медсестра поднялась с дивана. Она была широкая, в круглых очках, какая-то лесная, похожая на Ухти-Тухти. В детстве я слышала эту сказку, но кто такая Ухти-Тухти, так и не поняла до сих пор. То ли курица, то ли еж.
— Здесь, — скомандовал Не Онисимов.
Таксист остановил машину возле его подъезда.
— Спать хочу, — поделился Не Онисимов, расплачиваясь. — Пятые сутки не сплю. Сейчас приду и засну как убитый.
Мы выбрались из такси. Таксист с удивлением посмотрел на Не Онисимова в одеяле. Интересно, что он подумал…
Я направилась к своему подъезду.
— Куда? — окликнул Не Онисимов. — Ко мне…
Он подзывал меня, как собаку. И я подошла к нему, как собака, с той же степенью доверия и простодушия.
— Но вы же ляжете спать, — напомнила я.
— Ну и что? И вы ляжете спать. У вас даже одеяло с собой. Под свое одеяло и ляжете.
Не Онисимов взял меня за руку и повел за собой.
— Я не могу спать без ночной рубашки, — слабо сопротивлялась я.
— Ничем не могу помочь. У меня нет женских вещей. Ляжете в платье.
Мы вошли в лифт. Не Онисимов припал затылком к стене и закрыл глаза. Он засыпал на ходу, как лошадь. Вернее, как конь. Я нажала нужную кнопку. Этаж я знала, поскольку мы были соседи и жили на одном уровне.
Я подвела Не Онисимова прямо к его двери. Не просыпаясь окончательно, он стал отпирать, но ключ не поворачивался.
— Что за черт! — удивился Не Онисимов.
С той стороны послышался шорох. Дверь распахнулась. На пороге стоял патлатый, красноклетчатый безвозрастный человек. Я догадалась, что это муж Аллы. Ему можно было дать и тридцать лет, и пятьдесят. Либо ему было тридцать — и он плохо выглядел, что естественно в его ситуации. Либо ему уже стукнуло полтинник, но выглядел он очень хорошо.
— Вы еще здесь? — не удивился Не Онисимов.
— А где же мне быть? — в свою очередь, удивился мужчина.
Мы стояли и смотрели друг на друга.
— Вы проходите, — пригласил муж. — Раздевайтесь.
Мы прошли и разделись. Не Онисимов скинул одеяло, потер задубевшие руки. Лицо его было утомленным и счастливым одновременно. И он был хорош, как Алеша Попович после сражения с татарами.
— Доставайте свой коньяк, — распорядился Не Онисимов. — Теперь можем его выпить. Имеем право. Заработали.
— Так я уже выпил, — растерялся муж. — Вы бы еще дольше гуляли.
— Весь? — удивился Не Онисимов.
— Ну весь, конечно… — виновато подтвердил муж. — Я ждал, ждал…
— Тогда идите домой, — отпустил Не Онисимов и снова потер руки, как человек, которому что-то удалось. Этим «что-то» у Не Онисимова была операция. А операция — итог всей предыдущей жизни. Не Онисимову удалась его жизнь. Не больше и не меньше. — Идите домой.
— Я? — переспросил муж и ткнул пальцем в свою красноклетчатую грудь.
— Оба. И вы тоже, — он обернулся ко мне. — Нормально разденетесь и будете спать нормально. Все-таки одетой спать неудобно.
— А почему вы меня прогоняете?
— Потому что вы мне не нравитесь.
Он подошел ко мне. Снял с меня очки. Стал рассматривать мое близорукое лицо, как будто гладил глазами.
Мое сердце сделало кульбит, мягко стронулось с места и поплыло, как в состоянии невесомости.
— По-моему, я вас уже где-то видел…
— Конечно, видели. Мы же соседи…
— Нет. Раньше.
Может быть, тогда, за спинами. За смеющимся широким лицом Ритки Носиковой.
— Мне не хочется спускаться и подниматься. Можно, я уйду через балкон?
— Можно, — разрешил Не Онисимов. — Но я вам помогу.
Мы вышли на балкон. Он подал мне свою сильную, красивую, талантливую руку. Я оперлась на нее. Уверенно встала на балконные перильца.
Город спал и смотрел предрассветные сны.
Сколько раз в своей жизни я протягивала руку помощи и скольким людям. А когда помощь понадобилась мне, их не было рядом. Рядом случился незнакомый человек, совершенно случайно свалившийся на голову. Значит, принцип «ты мне, я тебе» не срабатывает, потому что добpo бескорыстно. Ты мне, я другому, другой третьему — и так далее во времени и пространстве. И чтобы цепочка не прерывалась.
Муж Аллы вышел на балкон, заботливо накрыл Не Онисимова моим одеялом. Муж опекал Не Онисимова. Не Онисимов поддерживал меня. Я — Аллу, Алла — все человечество, а человечество, даст Бог, протянет руку мужу. И тогда весь мир замкнется в едином хороводе.
Небо посветлело, из черного стало серым, и луна, потеряв шикарный выгодный фон, полиняла и уже никак не выглядела: ни хорошо, ни плохо. Дома как будто окунулись в проявитель. Стены стали светлые, а окна темные. И казалось, что за каждым окном спит по гению или даже по нескольку гениев сразу.