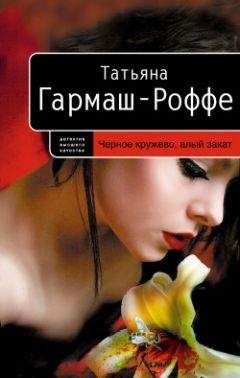Пер Петтерсон - Пора уводить коней
Юн не хотел проводить время ни с кем, кроме меня. У него были младшие братья-близнецы, Лapc и Одд, но мы с ним были ровесниками. Уж не знаю, с кем он общался весь год, пока я жил в Осло. Он об этом не говорил, ну и я не рассказывал о своей жизни в городе.
Он никогда не стучал в дверь, он тихо поднимался по тропке, оставив у берега свою маленькую лодочку, и стоял у крыльца, дожидаясь, пока я догадаюсь, что он тут. Ему редко приходилось ждать долго. Бывало, на рассвете, еще досматривая сны, я вдруг начинал в полудреме мучиться неудобством, словно мне приспичило по нужде и надо сделать усилие и проснуться, пока не случился конфуз, и я разлеплял глаза, уже понимая, что дело в другом, шлепал к двери, распахивал ее — и там стоял Юн, улыбаясь и, как всегда, щурясь.
— Ты с нами? Пора уводить коней!
Тут же оказалось, что «с нами» — это он да я, как обычно, и, если я не пойду, он останется один, а это мало радости. К тому же в одиночку лошадей гонять трудно. Фактически невозможно.
— Ты тут давно стоишь?
— Я только пришел.
Он всегда так говорил, и я никогда не знал, правда ли это. Я стоял в одних трусах и смотрел ему через плечо. Река была оторочена туманом, уже рассвело, но было свежо, по животу и бедрам разбегались мурашки, а я все равно стоял и смотрел, как блестящая мягкая река выплывает из дымки, принимает чуть вправо и протекает мимо. Я знал этот изгиб наизусть. Он снился мне зиму напролет.
— Каких лошадей?
— Баркалдовых. Они в загоне в лесу.
— Знаю. Зайди в дом, пока я оденусь.
— Я здесь постою, — ответил он.
Он никогда не заходил к нам, может, из-за отца. С ним он не разговаривал. Не здоровался даже. Непременно утыкался взглядом в землю, если они встречались у магазина. В таких случаях отец обыкновенно останавливался, оборачивался ему вслед и говорил:
— А это не Юн был разве?
— Юн, — отвечал я.
— Что это с ним? — спрашивал отец каждый раз, как будто бы уязвленно, и я неизменно отвечал:
— Не знаю, — что было правдой, но при этом мне и в голову не приходило спросить. А сейчас Юн стоял на каменной кладке, которая заменяла крылечко, и смотрел на реку, поджидая, пока я стяну свою одежду со спинки деревянного стула и напялю ее на себя. Я спешил, мне было неловко, что он зябнет там один, хотя я, конечно, распахнул дверь, чтобы он мог меня видеть.
Безусловно, меня должно было торкнуть предчувствие, я, конечно, мог бы увидеть в тумане над рекой, распознать в дымке у скал, заметить в белом цвете неба, услышать в словах Юна, догадаться по тому, как он двигался и как замирал столбом на каменной дорожке, что с этим утром что-то не так. Но мне было пятнадцать, и я обратил внимание только на то, что Юн пришел без ружья, которое он постоянно таскал с собой на случай внезапной встречи с каким-нибудь шалым зайцем, но оно и понятно, когда сводишь лошадей, ружье только мешает, а палить в коней мы не собирались. Юн показался мне обычным: спокойным и деятельным одновременно, все его мысли были уже заняты конями, но нетерпения он не проявлял, щурился как всегда. Мне его собранность и деловитость были на руку, не секрет, что во всех наших затеях верховодил он, а я шел на поводу. Юн-то поддерживал форму круглый год. Единственное, в чем мне не было равных, — это вскочить на бревно и лететь вниз, у меня было врожденное чувство равновесия, такой дар от природы, говорил Юн, хотя он формулировал это иначе.
Еще он научил меня беспечной раскованности, растолковал, что если ввязаться в бой, не просчитывая наперед всё и не давая опасениям, что вдруг не получится, стреноживать мой порыв, то я смогу добиться высот, о которых и не мечтал.
— Готов, — сказал я. — На старт, внимание, марш!
Мы вдвоем спустились по тропинке к реке. Было очень рано. Солнце выскользнуло из-за утеса, всколыхнуло воздух, окрасило все вокруг в новый цвет, а остатки тумана над водой растаяли и пропали. Мне неожиданно стало жарко в свитере, я закрыл глаза и шел так, ни разу не оступившись, пока не почувствовал, что мы дошли до реки. А там открыл глаза, встал на отмытые дождем причальные камни, забрался в Юнову скорлупку и сел сзади. Юн отвязал лодку, запрыгнул в нее, взял весла и погнал лодку короткими, сильными взмахами наискось сильному течению, потом поднял весла, чтобы лодку снесло, снова на них налег, и так пока мы не уткнулись в другой берег метров на пятьдесят ниже нашей избушки по течению. Ровнехонько чтобы из нее нельзя было увидеть нашу лодку.
Потом мы забрались наверх по откосу, Юн первым, я за ним, и пошли вдоль колючей проволоки, огораживавшей луг, на котором высоченная трава, подернутая пленкой росы, стояла в ожидании, что ее вот-вот скосят, раскидают по сушилам и оставят на солнце перепревать в сено. Мне казалось, что я бреду по пояс в воде, но не ощущаю ее сопротивления, словно бы во сне. Мне вода довольно часто снилась, я водил с ней дружбу.
Луг тоже принадлежал Баркалду, мы миллион раз ходили этим путем, по тропинке между полей и дальше по большой дороге, чтобы попасть в магазин за журналами, карамельками и прочим товаром по нашим деньгам — в кармане при каждом шаге звякала мелочь, один, два, редко-редко пять эре; той же дорогой, но в другую сторону мы ходили к Юну, и его мама приветствовала наше появление с таким бурным восторгом, словно бы я был наследным принцем, не меньше, зато папа Юна тут же утыкался в местную газету или спешил в сарай или хлев по вдруг обнаружившимся неотложным делам. В этом было что-то мне непонятное. Ну и черт с ним. Мне-то что. Лето кончится, домой уеду.
Владения Баркалда начинались по ту сторону дороги, у него было несколько полей, на которых он через год сеял то овес, то рожь, и поля тянулись до самого леса, где углом стоял хлев, а в лесу на большой делянке, которую он обнес колючей проволокой врастяжку между деревьев, в два ряда, паслись четверо его коней. Лес, и немалого размера, тоже принадлежал ему. Баркалд был самым большим куркулем во всей округе. Мы все терпеть его не могли, неизвестно почему. Не знаю, чтобы он хоть раз задел нас пусть бы словом. Но он владел всем, а Юн был сыном мелкого хуторянина. В этой части страны, в нескольких километрах от шведской границы, почти все хуторочки вдоль реки были размером с наперсток, но хозяева их пытались жить с того, что выращивали сами, и с продаж молока заводикам, и с рубки леса в сезон. Рубили в лесах того же Баркалда и еще одного толстосума из Барума, леса — это тысячи и тысячи гектаров, протянувшиеся и на север, и на запад. Деньги особого хождения не имели, насколько я видел. Может, у Баркалда они и водились, но у отца Юна они отсутствовали начисто, и у моего их тоже не было, сколько я знал. Каким образом он наскреб на покупку нашего сэтера, где мы проводили то лето, остается загадкой. Положа руку на сердце, должен признать, что я мало знаю о том, какими трудами отец зарабатывал на жизнь, свою и мою в том числе, но это всегда был многоприводный механизм, соединение сложных конструкций и простых инструментов, а иной раз многоходового планирования и дальнейшего мотания по отдаленным уголкам страны, в которых я никогда не бывал и с трудом мог их себе представить, одно точно — в какой бы то ни было зарплатной ведомости имя отца не значилось. Иной раз погуще, другой пожиже, но каким-то образом ему удавалось выколачивать столько, что без денег мы не сидели, а уж когда мы прошлым летом в первый раз приехали сюда, на сэтер, отец ходил как именинник: улыбался, мог подойти к дереву и похлопать по нему, а то садился на камень у реки, уперев подбородок в руки, и подолгу сидел так, засмотревшись на заречную сторону. Словно бы узнавал давно знакомые места. Хотя ни знать, ни узнать он здесь ничего не мог.
Луговая тропинка уперлась в дорогу, и мы с Юном свернули на нее, мы часто ходили этим путем, но сейчас все было как в первый раз. Мы шли красть коней и знали, что по нам это видно. Преступление меняет человека, делает что-то со взглядом, с походкой, с движениями, такое не скроешь. Тем более конокрадство, хуже которого ничего нет. Мы знали, по каким законам живут к западу от Пекоса, мы читали комиксы о ковбоях, и, хотя кто-нибудь мог бы нам возразить, вы-то, мол, восточнее Пекоса, мы были настолько восточнее, что уже почти западнее, это откуда на мир посмотреть. А законы эти беспощадны, схватят с поличным — вздернут на ближайшем суку без разговоров, грубая пенька вспорет нежную кожу, кто-то шлепнет коня по заду, и он дернет вперед, выскользнет промеж ног, а ты останешься сучить ими в воздухе, догоняя уходящую жизнь, которая как раз пронесется у тебя перед глазами чередой снимков, все менее и менее четких, пока наконец из них окончательно не изгладишься ты сам и все виденное тобой и останется один туман, который сменится чернотой. В пятнадцать лет, мелькнет напоследок мысль, всего в пятнадцать, так рано, и из-за какой-то клячи, но — поздно, всё уже поздно. Дом Баркалда зловеще чернел у самого леса и казался более мрачным, чем обычно. В столь ранний час в окнах не было света, но вполне вероятно, что сам Баркалд стоял сейчас за темным окном, и видел, как мы идем, и обо всем догадывался.