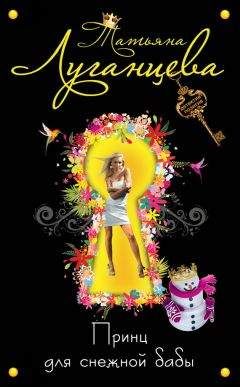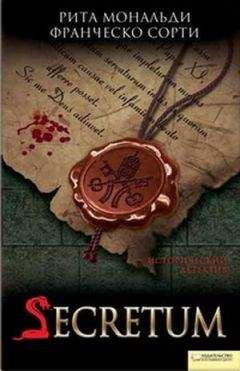Ада Самарка - Игры без чести
Одевались всегда скромно, многие вещи Зоя отдавала, чтобы перешили. Дома было всегда опрятно, светло, но без излишеств. Старого почти ничего не выбрасывалось, чинилось до последнего. И не потому что денег не было — напротив, их с каждым месяцем становилось все больше, они копились, складывались на книжку: то ли Славке на взрослую жизнь, то ли еще на что-то. Летом зато они на два месяца уезжали на море, в детский санаторий в Евпатории и в Очаков, в Дом творчества им. Сутковского. На работе всегда помогали с профсоюзными путевками.
3
В 1983 году профессору Ильницкому неожиданно предложили место декана кафедры романо-германской филологии в Киевском университете им. Т.Г. Шевченко. Бытовые трудности, возникшие в результате масштабного переезда, преодолели организованно и легко, единственная заминка заключалась в подготовительных занятиях по немецкому, на которые записали Вадика.
Поселились на улице Круглоуниверситетской, на самом верху, напротив пожарки. «Знаешь, почему эта улица так называется?» — по-английски спрашивал Александр Яковлевич сына. «Потому что тут был круглый университет», — звонко отвечал Вадик. «А вот и нет, не было тут никакого университета, вот, посмотри, видишь, вон университет виднеется, вон он, красный, потому и назвали так, что видно его отсюда». А круглая улица — так то понятно почему: идет она в гору, старинная улица, на ней дома высокие и такие крутые повороты, что, вгрызаясь в гору, с домами по обе стороны, она очерчивает круги. Домой, правда, ходили по лестнице — большая лестница, много ступеней, а по дороге спускались, только когда гуляли.
Вадик воспринял переезд очень болезненно. Это была, по сути, его первая трагедия — ведь осознав уже в Киеве, что они больше никогда-никогда в жизни не вернутся в ту квартиру, к тем комнатам, запахам, пятнам на обоях и к ванной с окном, к той лестнице, и даже если по прошествии лет он сам приедет туда, то лишь в качестве гостя, но никогда уже не сможет жить там, как раньше, ходить с папой в булочную, где продавщица часто совала ему «барбариски»… вообще, произошли перемены, и они страшили. Вадик горько плакал, когда понял, что уже все, случилось, уже переехали, хотя вначале, конечно, идея такого масштабного путешествия (даже с бабушкой и папиными книжками) его очень радовала. Это первое расставание, первая потеря целого мира напугала его ужасно и даже, наверное, повлияла на всю оставшуюся жизнь. Вадик был, конечно, очень развитой мальчик, возможно, ничем особо и не одаренный, но грамотное воспитание взрастило, раскрыло в нем необходимые способности, а главное — чувства. Он с младенчества чувствовал то непередаваемое на картинах Эль Греко, Караваджо и остальных из отцовского многотомника «Памятники мирового искусства». Удлиненные шеи и свечной полумрак были для него так же глубоки и значительны, как неровные потертости на деревянном плинтусе и слегка расходящаяся щель под дверью, неравной ширины щели между паркетными досточками, страшноватое и малоизученное место над шкафом, в углу под потолком, где снизу виден лишь запыленный верх овального плафона старой люстры. Мир его дома был огромен, и каждый предмет там Вадик наделял почти что душой: как-то раз ему вдруг стало отчаянно жаль свою атласную зеленую подушечку, на которой спал почти с рождения: осознание, что тут отдыхает его голова, что подушечка такая мягонькая и такая старенькая уже, было таким неожиданно щемящим, что, не желая расставаться, Вадик принес ее на кухню, к завтраку, вложив в подушечные объятия всю свою боль к тем, кто стареет и когда-нибудь перестанет существовать. В доме был всегда четкий, но не тиранический порядок, согласно которому определенные вещи в принципе не могли пересекать порог той или иной комнаты (так посуда никогда не выходила за пределы кухни, только по праздникам, книги — за пределы отцовского кабинета, и так дальше). Подушка на кухне была нонсенсом, все сразу засуетились, папа даже поругался немного. Но Вадику стало спокойно, он любил этот порядок, чувствовал себя защищенным.
В Киев они приехали поздним летом. Днем солнечно, а вечером из окна сочится густой синий холод, и иногда подует так, что пальчикам в сандалиях становится зябко, а на тротуарах, у бровки и вокруг сточных решеток собираются по два-три желтых листика. Чем-то Вадику это все сперва напоминало то, как было в гостях у тетки, отцовской сестры. Когда сильно болела бабушка, то они с мамой жили у нее, на Долгопрудном. Там было хорошо, много книжек, журналы «Вокруг света» с интересными картинками и пластмассовые доисторические воины с дубинками. И еще было уютное чувство, что дом — он на месте, что через какое-то время они туда вернутся.
На самом деле тогда болела не только бабушка, но и Рита. Александр Яковлевич был категорически против второго ребенка, операция прошла хоть и удачно, с наркозом и без осложнений, но душевное потрясение, необъяснимое, ведь Рита во всем поддерживала мужа и не хотела делить Вадика ни с кем, сильно надломило ее где-то внутри, и потребовалось немало времени, чтобы можно было жить, видеть, чувствовать и желать как прежде. Когда Вадик засыпал, она облегченно шла в ванную или на кухню плакать, и однажды вышла во двор, потому что стены чужой квартиры давили невыносимо, на лавочке сидел какой-то дядька, она попросила закурить, хотя никогда не курила до этого. Она надела пальто прямо на ночную рубашку, было довольно холодно. Дядька что-то пробурчал, мол, женщинам курить не дает, а она то ли вспомнила что-то, то ли представила и тихо сползла рядом с ним на лавочку, промахнулась и, сидя на корточках, простонала: «Пожалуйста…»
Переезд в Киев на самом деле больше всех оценила именно Рита. Она никогда не была на Украине, хотя кто-то из ее родни происходил из Умани. Договорились, что с работой она определится чуть позже, когда Вадика устроят в подготовительный класс и, может, в какие-то кружки. Все боялись немного, что мальчику будет трудно адаптироваться. Ранней золотистой осенью они гуляли по незнакомым скверам и паркам, полюбили голубой особняк музея русского искусства, где на втором этаже есть чашка с фарфоровой лягушкой и огромные работы Шишкина — «как на часах у бабушки!» — говорил Вадик. Возле театра имени Ивана Франко была «смешная лестница» — нетипичное для советских площадок сооружение: многоуровневое, с трубами, мостиками и горками. Нечто похожее, сваренное трехмерными треугольниками, стояло и напротив Русского музея. Вадик сперва полюбил Киев, он был чем-то похож на Москву, но очень-очень маленький, какой-то камерный, так что за одну прогулку можно было весь обойти. С папой гуляли реже, зато если выбирались, то надолго. Иногда Вадик путал их круглоуниверситетскую лестницу с очень похожей, на улице Ивана Франко, и открывшийся оживленный Ярославов Вал, вместо тихого тенистого поворота у их дома, Вадик воспринимал как открытие нового измерения, как еще один фокус таинственного мира вокруг.
Из всех мест, где они бывали на отдыхе, Вадику больше всего нравился пансионат имени Сутковского в Очакове (а родителям как раз он совсем не нравился из-за плохой еды и туалетов на улице). Там жили не в корпусе, а в домиках — это ж какое чудо, иметь свой собственный домик! Еще умывальники были на улице — так странно было чистить зубы, а над головой листва шумит, пляшут с прохладой солнечные блики. Родители никак не могли решить, как быть с пижамой, ведь дома Вадик всегда чистил зубы в пижаме, потом уже переодевался, а тут нужно было выходить из домика, и первые дни он, словно в сказке, ходил на улицу в пижаме, пока отец не предложил переодеваться сразу, как встанет. Эта традиция вернулась с ними домой, ненавязчиво вытеснив какую-то уютную частичку детства. Жизнь поменялась, он возмужал тогда, руки и ноги вытянулись, и стала пропадать умилительная детская округлость, его подстригли короче, так что пропало сходство с лохматым немецким пупсом, еще выпал первый зуб, и осенью пришлось ходить заниматься.
В Очакове ему нравились мощенные бетонными плитами дорожки и выкрашенные яркой краской перильца, нравилось, что там есть «два моря» — с одной стороны настоящее, с волнами и медузами, а с другой — лиман, вонючий и какой-то завораживающе неземной, огромная враждебного вида лужа, совершенно мертвая, где лежали на боку ржавые корабли. Туда они ходили гулять по вечерам — Александр Яковлевич, слишком нарядный для такой местности, весь в белом, и тихая Рита, к осени немного поправляющаяся, семенящая всегда немного сзади.
Кормили всегда одним и тем же, только оно по-разному называлось. На второй день у Вадика начался сильный понос, пришлось пропустить море. Сначала были подозрения на персики, потом пообщались с соседями, оказалось, это у многих детей так. Всю неделю были проблемы, его желудок, привыкший к диетической и грамотно подобранной пище, не смог справиться с казенными рыбными котлетами и вареной курицей. Во время послеобеденного отсиживания в тени познакомились с Зоей Михайловной. Они со Славиком приезжали сюда не первый год и брали, помимо прочего, электрическую плитку. Их и раньше видели на пляже, обращали внимание, какой взрослый мальчик растет, как помогает маме носить пляжные вещи, никогда не спорит. Если бы ему не читали вслух книжки (наверстывая все непрочитанное вслух дома) и он бы не строил песочные крепости, то приняли бы его за пятиклассника, а оказалось, что Славик всего на два года старше Вадика и только закончил первый класс.