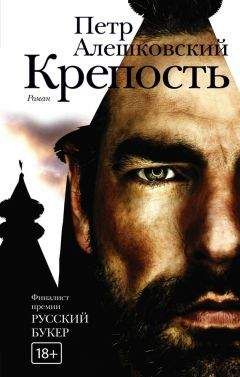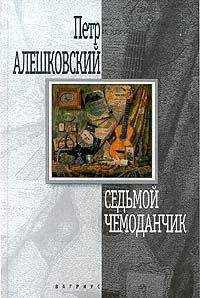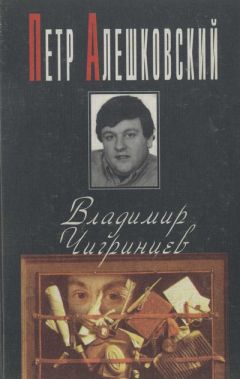Петр Алешковский - Жизнеописание Хорька
Голова отвалилась назад, застывший взгляд был устремлен куда-то наверх, в отклеившиеся обои.
Он обошел тело, потрогал холодный ноготь, надавил пальцем на щеку, застыл на миг, принюхиваясь, но ничем абсолютно не пахло, прислушался и, не уловив звука дыхания, перешагнул через ее голову, взял со стола краюху хлеба и литровую банку с вечерним надоем, залез с ногами на диванчик, выпил молоко и съел хлеб. Затем принялся смотреть на умершую – молча изучал лицо, руки, грязные босые ноги, в черных трещинах ступни. Потом переключился на стену, на те же обои, что разглядывала стеклянными глазами старая. Так сидел, не выключая свет, не двигаясь, до утра.
С наступлением темноты стосвечовая лампочка на кухне разгорелась сильнее, заполнила все теплом и немигающим светом. Он не чувствовал движения воздуха, не различал уже рисунка на обоях, как слепец, ощущал отдаленное присутствие предметов только кожей лица. Закрытая дверь отсекала от всего дома, но вместе с тем дарила покой, и мертвое тело было естественно, как табуретка, как утюг на застывшей плите.
В этой позе застала его соседка, что брала по утрам у бабки молоко, – он сидел на диванчике в кухне рядом с окоченевшей старухой, притаившийся, но, кажется, ненапуганный, и сосал свой неизменный палец. Слезящиеся и припухшие от бессонницы глаза не утратили блеска. Соседка вошла, тихо ступая по тряпичным половичкам. Мальчишка, вероятно, не расслышал ее шагов, зато почувствовал движение воздуха от ее приближения – и, как зверек, вздрогнул от неожиданности и даже слегка покраснел. Ощутив по трепету пальцев, коснувшихся его волос и головы, весь ужас онемевшей женщины, он чуть только повернул лицо и сказал: «Бабка у меня померла», – вынул изо рта палец, повалился на диванчик и моментально заснул.
Деревенские вспоминали об этом случае, косясь на проданный Зойкой за бесценок дом. Данилку их переживания не волновали – он снова переехал жить в город.
5
Устроить его в детский сад не удалось, и он таскался с матерью на работу. Там была полная свобода – либо играл в подсобке, либо лазил по складу, где разрешали есть любые фрукты, а чаще бегал на пустырях за магазином. По-прежнему его больше интересовали звери, нежели сверстники, – он дружил с собаками, мог часами следить за их пышными свадьбами – вид совокупляющихся псов будил в нем просыпающийся интерес к собственному телу. Он уходил с собаками далеко, но всегда каким-то особым чутьем находил дорогу назад к магазинчику. Еще он наблюдал, как кошка тешится с полузадушенным воробьем, рассматривал тщательно, как, облепленная алчными муравьями, извивается и помирает от их яда многоцветная стрекоза, – никакого садистского сладострастия он не испытывал, просто изучал проявления жизни и смерти. Гонял по помойкам голубей и ворон. Мальчишкам из соседних дворов настрого запрещали с ним водиться, он знал кучу изощренных ругательств, которых будто бы не знали они, – кривоногий, растерзанный, он вызывал опаску у благопристойных родителей. Завидя его, мальчишки кричали: «Криворотый, криворотый, Хорек!» – и он перестал искать их внимания.
Он придумал себе такую игру: ставил банку на банку, отходил назад и кидал камни, стараясь подбить то верхнюю, то нижнюю, в зависимости от поставленной задачи. Скоро научился не делать промахов – глаз у него был точный.
Из этой игры родилась забава посерьезней – затаившись в подсобке, он объявил войну крысам. Он умел замирать и ждал, пока глупые животные не выползут из своих нор, главное было не смотреть им в глаза – ориентироваться по слуху он научился у бабкиной козы. Чуть поводя головой с растопыренными, напряженно слушающими ушами, сжимал он в кулаке тяжелый подшипник – казалось, он спит, чуть приоткрыв глаза. Но вот крыса выбегала на свет, и тогда он неожиданно бросал и редко мазал, – но, чтоб оглушить, надо было попасть точно в глаз, а уж затем добивать палкой. Обычно крыса подпрыгивала, издавала мерзкий писк и исчезала в дырке в стене или между мешков с товаром. Но все же двух толстых с длинными голыми, наподобие свекольных, хвостами он добил и очень этим гордился.
Женщины в магазине скоро к нему привыкли и перестали замечать. Он не реагировал никак на их брошенные походя ласки, старался не попадаться им на глаза, и это, естественно, их обижало. Анна Ивановна, шествуя из подсобки в магазин, замечала его фигурку, затаившуюся где-то в углу, и, подойдя к прилавку, всегда бросала Зойке: «Твой-то, муделенок, все крыс сторожит».
– А и хрен с ним, лишь бы под ногами не вился, – отмахивалась Зойка.
Он и правда походил больше всего на то, что в народе называют недоделанным, «прихехекнутым» – вечно замурзанный от гулянья по пустырям и помойкам, в потасканном пальтишке или рваном свитерке, в маленьких резиновых сапожках, в шапчонке невообразимого фасона или просто с расхристанной, давно не мытой белесой головой с теми редкими волосиками, что считаются одним из признаков если не дебильности, то уж точно малахольности и малокровия. Питался он как придется. Съедал все до донышка, отваливался от блестящей тарелки и замирал на непродолжительное время, пока не уляжется в набитом животе пища. Затем вставал из-за стола и снова был готов к походам и охоте или затихал где-нибудь на диванчике или в кресле, вперившись в телевизор и сося свой любимый палец.
Материнские постояльцы чаще всего относились к нему как к неодушевленному предмету – редко кто пытался завоевать его симпатию, а если кто и пытался, то получал в ответ лишь заряд холодной ненависти.
Исключением был один дядя Коля – шофер, работавший на большом, тяжелом лесовозе, задержавшийся в Зойкиной квартире дольше других. Дядя Коля, конечно, тоже любил выпить, особенно после тяжелой работы, но Данилка сразу почуял, что выпивка не имела над ним той власти, что над другими, – он и после бутылки водки не превращался в безмозглохрапящее чудовище, не икал, не рыгал в туалете, не пукал беззастенчиво, не орал во всю глотку, не бил ни посуду, ни мать. Дядя Коля сам стирал белье, водил их с мамой в кино на французский фильм с Бельмондо и иногда подвозил из магазина на своей большой машине с железным громыхающим прицепом. Он даже давал ему посидеть за рулем.
Мать при нем стала опрятнее, начала красить губы помадой и иногда прикладывать за уши и под мышки флакончик нестерпимо вкусно пахнущей «Красной Москвы». Дядя Коля привозил из леса дичь – у него было одноствольное ружье, и если он не стрелял сам по пути, с ним делились знакомые охотники и лесорубы. Он больше привозил боровую птицу: глухарей, тетеревов или рябчиков – целую гору маленьких вкусных рябчиков, которых запекал в фольге в духовке. Они ощипывали их с Данилкой – мать не любила этим заниматься.
Как-то он взял мальчика с собой в рейс. Добрались до вырубок только к вечеру, загрузили прицеп липкими сосновыми стволами и провели ночь в бытовке с лесорубами. Самое интересное началось на обратном пути. Один из мужиков увязался с ними в город, и дядя Коля посадил его за руль, а сам, положив в карман ватника горсть патронов, встал с ружьем на подножку снаружи, зацепившись за ручку на дверце широким офицерским ремнем. Машина шла медленно – еле ползла, мотор работал однотонно, без перебоев.
– Тут главное, чтоб звук был одинаковый, иначе они испугаются и улетят, – объяснил мужик.
«Они» были глухари. Они сидели на соснах, на самых верхушках, большие, иссиня-черные, тянули длинные шеи, провожали взглядом чудное громыхающее существо.
– Они людей боятся, машины не боятся, – опять объяснил мужик.
Дядя Коля на подножке прижался всем телом к кузову, выставив вперед ружье. Вскоре он выстрелил. Большой петух сорвался с ветки, ушел свечой вверх и вдруг начал падать, перевернулся на лету через голову, со всего размаху впечатался в дорогу. Дядя Коля настрелял их тогда с десяток, несколько штук отдал попутчику, остальными одарил Зойкиных подруг – Анну Ивановну, Раиску, даже соседке по площадке достался большой глухарь. Внутри квартиры, над порогом, на дверном косяке он прибил расправленный веером рябой петушиный хвост. Хвост долго висел там, даже когда дяди Коли не стало. Приняв для сугрева лишка, дядя Коля влетел зимой в незамерзающее болото и утоп в нем – груженую машину едва вытащили потом тяжелым трактором.
Поездка в лес запомнилась. Сидя в одиночестве дома, ожидая прихода матери, он вновь переживал звуки охоты – любовь к преследованию ради преследования была заложена в нем, видимо, от рождения. Воспоминание доставляло чисто физическое наслаждение: прикрыв глаза, он возбужденно елозил по креслу и теребил свой палец. Той зимой, когда погиб дядя Коля, он уже ходил в первый класс.
6
Учился он плохо. Четыре простых арифметических действия, умение выводить каракули, кое-как читать не без назойливой и нетерпеливой подсказки – вот, пожалуй, и все успехи. Таких подобных маленьких выкормышей пролетарского Славно в каждом классе набиралось трое-четверо – в школе к ним привыкли и старались всеми силами дотянуть до ПТУ.