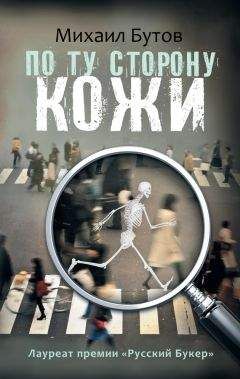Михаил Бутов - Свобода
Я фотографировал камни — моего друга интересовало движение. Он изучал особую, неподконтрольную людскую пластику, проявляющуюся, когда человек теряет власть над собой. Чутье безошибочно выводило его туда именно, где через мгновение падал в припадке эпилептик, пытался опереться ладонями о воздух застигнутый сердечным приступом старик или сжавшаяся в истерике женщина пускалась выкликать обвинения миру. Нам доводилось названивать в «Скорую» и помогать прохожему врачу делать искусственное дыхание; подолгу простаивать, наблюдая, как пьяный на панели подтягивает к подбородку колени и пытается свести локти, как бы в обратную сторону вывернутые, или следовать за расхлябанным, с убегающими руками, сумасшедшим. Иногда он просил у меня аппарат и прицеливался — но так и не нажимал спуск. Говорил, что необходимо остерегаться фиксации, извлечения момента из связи — ибо данный способ обращения со временем хотя и прост, но легко оборачивается принудительным накачиванием смыслов; многие из работавших в визуальных искусствах не одолели этого искушения простотой. Даже появившуюся позже видеокамеру — подарок его французской любовницы, наезжавшей в Союз дважды в год с поручениями туристической фирмы, но упорно не желавшей понимать (ввиду, наверное, наличия парижского мужа), что и «мой маленький русско-еврейский медведь» тоже был бы не прочь как-нибудь пройтись по Елисейским Полям, — мы протаскали с собой вхолостую, хотя несколько раз честно снаряжали перед выходом.
Он рассказывал мне, что многое перепробовал на сцене, прежде чем осознал в должной мере свое эпигонство. И только после затянувшегося мучительного бездействия один-единственный крик вдруг открыл перед ним его собственную дорогу. Навещая сослуживца после операции, он услышал, как кричит в соседней палате человек, выходящий из-под наркоза. И его поразило, насколько не соответствовал этим звукам расхожий определитель «звериные» — любой зверь смотрелся бы для них чересчур теплокровным. Безымянное горло за стеной взывало к иному царству — в исступлении первого существа, награжденного эволюцией голосовым аппаратом. С тех пор он начал подмечать проступающее в моменты сильной боли, самозабвенной ярости, в некоторых бессознательных состояниях необыкновенное сходство движений человека и насекомого. И актеры его от постановки к постановке все более походили на палочников или богомолов — то пожирающих друг друга, то стимулированных электротоком. Однако выговорить до конца все, что хотел выговорить (не словами, конечно, — какие уж тут слова!), он полагал возможным, только полностью подчинив постановку компьютеру, всеохватной программе, которую давно уже сочинял — благо и в своей науке соприкасался с математикой и языками — и отлаживал в присутственные дни у себя в лаборатории.
Но, вынужденный ограничиться здесь лишь светом, звуком и кое-какой машинерией, жаловался вроде бы в шутку, однако с нешуточной в тоне досадой, на несостоятельность европейской науки, так и не определившей точку в мозгу, куда следует вживлять управляющий электрод.
Я посещал его спектакли с удовольствием неизменным. Как художник истинно русский, он любил давать их в жутких каких-нибудь подвалах с трубами, муфтами и качающимися на проводах тусклыми лампами в жестяных плафонах; часто казалось, что стоит отступить на три метра от того, что было в этот раз сценой и зрительным залом, — и наткнешься на крысиный выгон, а то и на пригревшегося возле централи жмурика. Однако, уже в обход традиции, он не хотел, чтобы зрителей непременно набивалась толпа, и приглашал обычно не больше десяти человек, объясняя, что таково максимальное число, при котором еще возможно создать некий общий кокон, замкнутое пространство: геометрическое — подвальной секции или, в смягченном варианте, наглухо задрапированной черным институтской аудитории, световое — ртутного мертвенного света от специальных фонарей и акустическое — умопомрачительных шумовых фонограмм. Допущенные внутрь всего этого могли считать себя избранными. Я подтрунивал, но в глубине души мне льстило, что мое присутствие подразумевается всегда.
Мы и познакомились с ним некогда в схожих декорациях. В Ленинграде, всего в двух кварталах от Невского, стоял полуразрушенный дом. Его стены и сохранившиеся кое-где перекрытия служили ночлегом лицам уголовного вида (довольно, впрочем, толерантным), местным шировым и тем, кто, подобно мне, приезжал в колыбель революции без денег, без ясной цели и не имел здесь родственников или друзей, способных предоставить условия более цивилизованные. Соблюдалась молчаливая договоренность гадить только в определенном месте внутреннего двора и не лезть друг другу в душу. Почему-то там никогда не появлялась милиция, хотя отделение помещалось в переулке неподалеку. Наверное, они видели какую-то оперативную выгоду в том, чтобы под боком процветала такая малина. Первую ночь я провел в одиночестве в бывшей детской (судя по гномам и зайчикам на остатках ярких обоев), где нашел топчан из деревянных ящиков, покрытый драным тюфяком, половину свечи и кулек с коноплей — правда, совсем не забористой. Было довольно уютно, и однажды в окно даже залетел нетопырь. Так что сначала я расстроился и обозлился, когда, вернувшись сюда на следующий вечер, обнаружил на топчане, который уже считал своим, человека с книжкой, дожигающего свечной огарок. Однако он с первых слов сумел расположить меня к себе. Его багаж составляли спальный мешок и второй том Николая Кузанского из «Философского наследия». Мой — зубная щетка и тюбик пасты. Имело смысл объединить. Днем мы расставались — у нас были разные интересы: меня тянуло в Эрмитаж, Музей флота или Царское, его — в нонконформистские галереи и набираться опыта на репетициях экспериментальных студий (чтобы потом разочарованно костерить их на чем стоит свет — за узость мышления). К тому же, будучи весьма ограничены в средствах — если нашу тогдашнюю наличность вообще правомерно называть средствами, — мы избегали, таким образом, положений, когда придется платить за другого: не предложить, если возникнет ситуация, не позволила бы врожденная интеллигентность. Белыми же ночами устраивались в проеме арочного окна и обсуждали «Апологию ученого незнания» или погружались в мировоззренческие споры. Не наблюдали часов и порой совсем теряли ориентацию. Проснувшись, направлялись в пельменную за углом драить зубы и умываться казенным обмылком в рукомойнике при входе. Как-то, пока я в свою очередь пользовался щеткой, мой новый друг осведомился о времени у бодрого пенсионера в шевиотовом костюме не по сезону, приводившего в порядок седины перед зеркалом, вделанным в сушилку для рук. Тот шумно продул гребенку и ответил, что около восьми; Владимир Киевский с большущего значка у него на лацкане зыркнул на нас, как смотрят на мышь в сусеке. «Утра или вечера?» — спросил мой друг. «Тьфу, — сказал пенсионер, — ну что с вами делать? Только убивать на хер…»
Летом, когда наши прогулки были в самом разгаре, он нашел себе меценатов — многопрофильный кооператив, тихомолком сплавлявший за границу цветной металл, а напоказ — всяческие любопытные вещицы местному населению. Я прочел кипу их рекламных листков. А талисман-оберег в форме сплетенной из световодов косицы даже держал в руках. В его структуру закладывался универсальный космический код. Если такой кунштюк повешен в доме над дверью, темным мыслям переступившего порог злодея положено было развеяться за пять — восемь секунд, уступив место раскаянию и уже в порядке вещей следующей за ним благости. Кооператив отмывал деньги, моему другу приходилось расписываться за суммы, каких он и в глаза не видел, но все же теперь удалось заказать нужную технику и к осуществлению компьютерной мечты приблизиться почти вплотную. Под такое дело он решился сменить базу и перебраться в более респектабельный дворец культуры, где можно было снять балетный класс и несколько подсобных комнаток к нему.
Он очень гордился, что корабль, от киля до клотика выстроенный его собственными руками, все-таки выходит в настоящее море: отныне его актерам начислялась даже некоторая зарплата.
Покуда вопросы с переездом еще выяснялись, он распустил труппу на каникулы. Возможно, это было ошибкой с его стороны — так или иначе, но дождаться назад своих Галатей ему оказалось не суждено. Вскоре открылось: некий директор антрепризы, затесавшийся в узкий круг приглашенных на последний спектакль, был этой парой совершенно очарован и не одну неделю потом их обхаживал, нашептывая когда по телефону, когда пригласив пройтись бульварами, что ему не случалось еще видеть, чтобы такие одаренные исполнители были настолько подавлены диктатом режиссера-тирана. Что они, должно быть, и сами еще не догадываются, на что способны, а он человек многоопытный и за свои слова отвечает: на свободе их дарование тут же раскроется, как драгоценный бутон. Созданный им «Новый московский эротический балет» стал бы столь редкому цветку идеальной оранжереей.