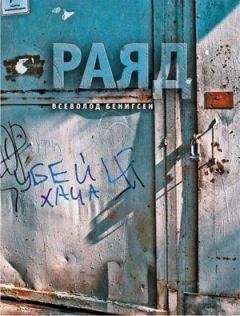ГенАцид - Бенигсен Всеволод Маркович
Антон был сильно удивлен, узнав, что по-прежнему выходит журнал «Прикладное искусство СССР», о котором с девяностых не было ни слуху ни духу – причем выходит под тем же названием, не изменив ни буквы, как будто и не было никакой перестройки, никакого развала Союза и вообще никакой новой истории. Не меньшее изумление у него вызвал и журнал «Пионерский салют», о котором он не слышал с самого своего октябрятско-пионерского детства. Однажды, дожидаясь Лёню и от нечего делать, он пролистал один из номеров и пришел в неописуемый ужас – внутри были рассказы и повести советских времен со всей соответствующей той эпохе стилистикой и лексиконом: шпионы бегали за пионерами, комсомольцы убеждали хулиганов стать комсомольцами, с беспартийными папами спорили партийные сыновья. Кто это будет читать сейчас, Антон решительно не мог понять. Но и представить себе, что кому-то придет в голову спонсировать подобное, он тоже не мог. Тем более диким ему казался вариант, при котором какая-нибудь мафиозная структура захочет отмывать деньги через журнал «Пионерский салют». Хотя, может, в подобной дикости и был свой элемент хитрости – проверять подобный журнал налоговая будет в последнюю очередь. В конце концов Антон решил, что журнал финансируют какие-то реакционные силы, например партия коммунистов. Ну что-то вроде диверсии или подпольной работы. В этом, по крайней мере, была бы хоть какая-то логика. А вот какую логику можно было применить к журналу «Советские шашки» или, скажем, «Метание молота в СССР», Антон не знал. Возможно, за финансовыми вложениями стояли какие-то спорткомитеты.
В общем, все это Лёня скрупулезно выписывал, нумеровал и подшивал. Периодику он вообще считал более ценным материалом, нежели художественную литературу. Да и сам он частенько говорил Антону: «Пресса – это одновременно история и искусство. Факты через сто лет расскажут больше, чем какой-нибудь писака с большим воображением». Антон на это ему возражал, говоря, что, мол, как раз некоторые факты в газетах и пишутся «писаками с большим воображением». Далее начинался бесконечный спор о мифотворчестве, о правде в искусстве и истории, спор, который ни к чему не приводил, и каждый оставался при своем мнении. Но сейчас Антону было не до споров – ему нужен был спецвыпуск.
– Емельчук у аппарата.
– Алло, Лёнь, это Антон говорит. Из Больших Ущер.
– Здорово! Что нового в Больших Пещерах? – спросил Лёня и глупо захохотал.
Смех был вызван, конечно, тем, что для Лёни Большие Пещеры были абсолютной «жопой мира», применительно к которой вопрос «что нового» был риторическим.
Антон пропустил смех Лёни мимо ушей.
– Слушай, Лёнь, нужна помощь. Все-таки райцентр...
– Жми на газ. Центр Рая слушает.
– У меня, понимаешь, не хватает одного выпуска. Нигде не могу найти.
– Не вопрос. Какого?
– Спецвыпуска.
– Чего? – удивился Лёня.
Антон подробно объяснил, на какое число пришелся спецвыпуск, какая газета его выпустила и даже описал, как он выглядел.
На другом конце трубки раздалось какое-то шебуршание, а потом Лёнин смех.
– Ха-ха, да ты что, Антон! Маку обкурился? Я тут в календарь заглянул. Это ж воскресенье!
– Ну да, – согласился Антон. – А я тебе про что?! Я и говорю – специальный воскресный выпуск.
– Так кто ж по воскресеньям газету будет выпускать?
– Ты что, издеваешься? – начал злиться Антон. – Говорю ж: спец-вы-пуск!
– Да с какой такой пьяной радости?!
– Да как с какой? – опешил Пахомов. – Так указ же этого... президента.
– Кого? Какой указ?
– Президента... сохранение... наследие.
Дальше речь Антона потеряла всякую стройность. Он все говорил и говорил, но уже больше по инерции, понимая, что слова его абсолютно бессмысленны. Теоретически можно было бы даже не продолжать разговор и просто повесить трубку – на другом конце была стена непонимания.
– Что?! Ничего не слышу. Говори громче, – закричал Лёня. – Какой указ? Какое наследие?
Антон собрал последние остатки воли в кулак.
– Лёнь, ты что, ничего не слышал про указ? Про ГЕНАЦИД?
– Что?
– Через «а», в смысле.
– А это что еще за хрень?
– Государственная единая национальная идея.
– Да нет.
– Так вы что там, даже стихов не учите?
– Да ты что, Антон? Выпил, что ли?
Антон стиснул зубы так сильно, что задрожали скулы и в голове помутилось. Но ничего, выстоял.
– Ладно, Лёнь. Проехали. Я потом позвоню.
– Ну давай, – растерянно отозвался тот. Антон первым повесил трубку.
Он, конечно, предполагал, что что-то тут не то, тем более в свете последних «странностей» с исчезновением газеты, но одно дело предполагать, а другое – знать. Теперь Антон знал.
21
– Кать, Кать! Ты чего?
Катька очнулась от резких обжигающих хлопков по щекам. Затем в эту боль неожиданно вклинилось что-то мокрое и шершавое.
– Бульда, фу! – услышала она грозный голос Климова, еще не видя его самого. – Ах ты ж зараза! Бульда, брысь под лавку! Я кому говорю?!
Катька открыла глаза. Над ней стоял Климов, у него между ног была зажата голова бульдожихи. Голова эта отчаянно дергалась, плевалась, потявкивала и хрипела, пытаясь вырваться из тисков худых климовских ног. Язык Бульды свисал почти до пола, зад в приступе радостного возбуждения отчаянно вилял.
– Бульдочка, – приподнялась Катька, все еще сидя на полу и протянув руку к приплюснутой морде Бульды. – Отпустите ее, дядь Вить. Задохнется ж!
Климов нехотя разжал колени. Бульда тут же прыгнула всем телом на Катьку, и та, охнув, снова повалилась на пол.
– Ну, всё, – сказал Климов, схватил Бульду под пузо и выпихнул ее на улицу. Потом помог встать Катьке.
– Вот ты напугала, так напугала, – сказал он, усаживая Катьку за стол. – Часто это у тебя?
– Да нет, – помотала та головой, – пару раз было, что прямо слабела, а так, чтоб совсем.
– На-ка, выпей молока, – Климов поставил на стол стакан с молоком. – Авось в себя быстрей придешь. А то я даже не понял. Ты про Митю спросила, я ответил, и тут ты такая бац! А я.
Тут Катька, вспомнив причину падения, вцепилась Климову в отворот рубашки.
– Митька уехал?!
– Ну да, – высвобождая рубашку из Катькиных рук, ответил тот.
– Навсегда, – со вздохом произнесла Катька, всхлипнула и отвернулась.
– Да ну тебя совсем! К вечеру ж вернется! Приятель его попросил помочь кирпич сгрузить для строительства.
– Ой! – подняла голову Катька. – А я ж думала навсегда. Фу ты! А я, дура.
И засмеялась, вытирая кулачком набухшие от слез глаза.
– Прости, дядь Вить, это я по глупости бабьей, – радостно затараторила она, – мне ж Танька сказала, что уезжать он собрался, вот я хлопнулась в обморок.
– Не знаю. Может, и собрался. А может, пока так, планы одни. Да и куда ему ехать?
– Не знаю. В Москву.
– А что, его в Москве оркестр на вокзале с цветами встречает? Надо ж знать, куда и зачем ехать. В институт он провалился.
Катька закусила губу, а Климов вдруг хлопнул ладонью по столу так, что подпрыгнул стакан с молоком.
– Ну ты ж знаешь его! – закричал он. – Упрется как танк, и всё тут! Если вбил себе что в голову, молотком не выбьешь. И молчит. Обидно. Вот я даже и не знаю, вбил он себе что-то в голову или нет, потому что молчит. Но чувствую, вбил. Потому что не ты первая мне это говоришь. Это он нам ничего не рассказывает, а другим – нате, пожалуйста! Я и Любке говорил, надо что-то делать! Ему ж, дураку, через год в армию. А он провалился. А он же у нас единственный... балбес. Мы ж его так избаловали, что я его не то что в Москву, я его в райцентр одного пустить боюсь. Он же.
И Климов, не справившись с нахлынувшими чувствами, всхлипнул и опрокинул в себя Катькин стакан с молоком, крякнув, как будто это была водка.
Катька не следила за зигзагами климовских мыслей, но отметила про себя, что кое-что упустила из виду, когда думала, отдавать или не отдавать письмо. А именно армию. Получалось, у нее в кармане лежит нечто большее, чем просто угроза Митиного отъезда – у нее лежит его ближайшее будущее. Это меняло дело. Письмо надо было отдавать. Но отдавать его просто так, не попытавшись выторговывать у судьбы и для себя какого-нибудь гостинца, Катька не могла. В любом случае, если отдавать, то не сейчас и не дяде Вите. А только непосредственно Мите и лучше бы с глазу на глаз.