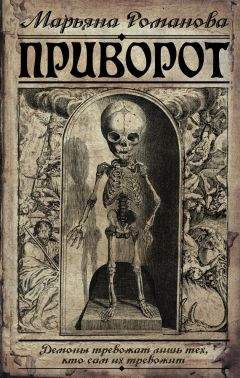Что видно отсюда - Леки Марьяна
— Откуда ты знаешь? — спросил лавочник. — Ты что, его видела? А его фото есть?
— К сожалению, нет, — сказала Эльсбет, — но Луиза так сказала Сельме.
Туг подошел оптик, он держал в руке пакет с замороженной рыбной запеканкой, рассчитанной ровно на одну персону, и согревающий пластырь для спины.
— Послушайте-ка сюда, — сказал он. — Если мы на что-то смотрим, оно может исчезнуть у нас из виду, но если мы не будем пытаться его увидеть, это нечто не исчезнет. Вы это понимаете?
— Это самое оригинальное оправдание для воровства в магазине, какое я когда-либо слышал, — сказал лавочник.
Эльсбет протянула мышеловку оптику.
— А ты вообще-то знал, что дохлые мыши помогают от глазных болезней? — спросила она. — Я могу приносить их тебе в магазин, если поймаю.
— Спасибо, не надо, — сказал оптик.
— Луиза любит буддиста, который живет в Японии вне целибата и через три недели приедет к нам, — сказала внучка крестьянина Хойбеля.
— На это я ничего не скажу, — сказал оптик. — Это дело Луизы. Вам больше нечего делать, кроме как вмешиваться в дела Луизы?
— Нет, — сказали лавочник и внучка крестьянина Хойбеля одновременно.
— К сожалению, — добавила Эльсбет.
Оптик вздохнул.
— Я считаю, насчет любви тут сильно преувеличено, — сказал он, — она же его почти не знает.
— А для этого и не надо знать человека, чтобы его любить, — сказала Эльсбет.
— А ты знаешь еще что-то? — спросила внучка крестьянина Хойбеля.
— Конечно, — сказал оптик, ошибочно полагая, что она хочет знать еще что-то не про буддиста, а про буддизм, и откашлялся: — Познание означает жизнь в непоколебимом безучастии.
Лавочник сунул согревающие пластыри оптика в пакет.
— Вот это очень даже походит на целибат, — сказал он.
Оптик всюду ходил со своими цитатами и всем действовал на нервы, как раньше Фридхельм со своей песней о прекрасном Вестервальде.
С тех пор как появился Фредерик, оптик все пытался одолеть свои внутренние голоса буддизмом, когда они становились нестерпимо громкими, особенно после двадцати двух часов. Но это действовало на них ничуть не убедительнее, чем прокуренные высказывания с почтовых открыток из райцентра.
Около двадцати двух часов оптик шел к себе в кровать, рассчитанную ровно на одну персону, и ставил свои вельветовые комнатные тапки на прикроватный коврик.
Когда оптик был ребенком, его мать всегда советовала ему вечером откладывать все свои заботы в комнатные тапки, тогда на следующее утро их там уже не окажется. Это никогда не сбывалось, потому что внутренние голоса оптика считали себя чем-то лучшим, чем заботы, которые могли довольствоваться тапками в качестве квартиры.
Голоса регулярно предъявляли оптику все, что он сделал неправильно или вообще не сделал, они выхватывали без разбору вещи из всех возрастов оптика и бросали их ему под босые ноги. При этом им было совершенно безразлично, что оптик не сделал эти вещи именно потому, что в свое время голоса ему это отсоветовали; теперь они предъявляли ему все, что он упустил из-за них же.
— Ты даже в шестнадцать лет не мог прыгнуть через Яблоневый ручей, — говорили они, к примеру, — хотя все остальные на это отваживались.
— Но вы же сами мне это отсоветовали, — говорил оптик.
— Теперь это вообще к делу не относится, — отвечали голоса. Всегда именно они, а не оптик определяли, что относилось к делу, а что нет.
Больше всего они любили переводить разговор на Сельму.
— Как долго ты еще не посмеешь сказать ей, что любишь ее? — спрашивали они, смакуя этот вопрос.
— Да вы же знаете, — говорил оптик, — кому и знать, как не вам.
— Ну и почему? — спрашивали голоса.
— Да вы же мне всегда не советовали это делать, — кричал оптик.
Когда голоса ближе к полуночи уже ленились приводить конкретные примеры, они заменяли их абстрактными словами типа «всё», «ничего», «никогда» и «всегда», которыми особенно удобно было шпынять оптика, особенно с тех пор, как он стал старше. Устранить «всегда» и «никогда» с возрастом становится еще труднее, чем обычно.
— Да ты никогда ни на что не отваживался, ты никогда ничего не смел сделать, — говорили голоса.
Они были так отчетливы и решительны, что временами оптик едва мог поверить, что люди вокруг него, Сельма, например, не слышат их. Оптик вспоминал покойного мужа Эльсбет, который страдал от громкого шума в ушах и в конце концов, совсем измученный, расплакался во врачебном кресле моего отца и поднес ухо вплотную к уху отца. «Да неужто вы этого не слышите? — с отчаянием воскликнул муж Эльсбет. — Не может быть, чтобы это не было слышно».
— Заткнитесь, — сказал оптик на пробу, повернулся на бок и сосредоточился на своих тапках, стоящих на коврике.
— Ты никогда ни на что не отваживался, — говорили голоса.
— Да, потому что вы меня всегда от всего отговаривали, — крикнул оптик, и голоса повторили, что это к делу не относится, главное — результат, и так они ходили по кругу целую ночь, а результатом на следующее утро всегда был невыспавшийся, выпотрошенный своими внутренними голосами оптик, который, сгорбившись на табурете для обследования, пытался выжать вес «всегда» и «никогда» и в конце концов совал голову в свой аппарат «Периметр», потому что только сюда голоса не имели доступа.
Теперь, с тех пор, как появился Фредерик, на ночном столике оптика всегда лежала книга о буддизме, и как только голоса принимались шпынять его Сельмой, «всегдами» и «никогдами», он раскрывал книгу на каком-нибудь помеченном месте.
— Я река, — говорил тогда оптик, — а вы только листья, которые несет по мне.
— Кстати, о реке, — подхватывали голоса, — мы говорим только про Яблоневый ручей.
— Я небо, — говорил оптик, — а вы лишь облака, которые плывут по мне.
— Неправда, оптик, — отвечали голоса, — небо — это никто, а ты облако, изрядно растрепанное облако, а мы — ветер, который тебя гонит.
В начале ноября, когда я еще не могла догадываться, что произойдет изменение планов и Фредерик будет здесь уже на следующий день, я обходила деревню по списку. Начала я с Марлиз, чтобы худшее сразу осталось позади.
— Никого нет дома, — крикнула Марлиз через свою закрытую дверь.
— Пожалуйста, Марлиз, я ненадолго, — сказала я.
— Никого нет, — крикнула она, — тебе придется с этим смириться.
Я обошла вокруг дома и заглянула в кухонное окно. Марлиз сидела за своим столом, одетая, как всегда, в норвежский пуловер и трусы. Ей было теперь лет тридцать пять, но выглядела она моложе. Что-то консервировало Марлиз.
Я прислонилась к стене дома у откинутой оконной створки.
— Марлиз, — сказала я в оконный зазор, — ко мне скоро приедут из Японии.
— А мне-то какая разница, — сказала Марлиз.
— Я знаю, — сказала я, — и хотела тебя кое о чем попросить: если ты встретишь где-нибудь моего гостя, не могла бы ты тогда… не могла бы ты быть немного приветливей? Как-то дружелюбнее, что ли? Совсем ненадолго. Я была бы очень благодарна.
Я слышала, как Марлиз закурила свою «Пэр-100». Она затянулась и выдула дым в мою сторону.
— Я не дружелюбна, — сказала она. — Тебе придется с этим смириться.
Я вздохнула.
— О’кей, Марлиз, — сказала я. — А в остальном у тебя все в порядке?
— Лучше не бывает, — сказала Марлиз. — А теперь до свиданья.
— Будь здорова, — сказала я, оттолкнулась от стены и пошла к Эльсбет, которая стояла у себя в саду и, скрестив руки под своим необъятным бюстом, разглядывала яблоню, увитую плющом.
Это была та самая яблоня, листья которой она пыталась сдуть воздуходувкой после гибели Мартина. Когда осенью после этого они облетели сами, Эльсбет пинала яблоню по стволу и сквозь слезы говорила, что теперь уже поздно и что листья с таким же успехом могли бы висеть и дальше.
Эльсбет указала на плющ:
— Надо бы эту штуку вообще-то обрезать, но я вообще-то не хочу, — бормотала она.