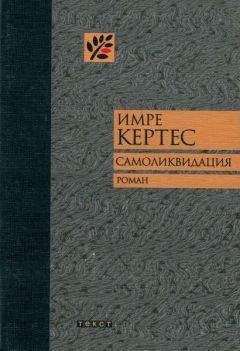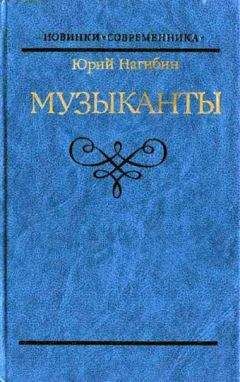Габриэла Адамештяну - Подари себе день каникул. Рассказы
Он долго шарил по стене, пока не нащупал перила, и, испуганно держась за них, глубоко вдохнув вонючий воздух, заплетающимися ногами одолел последние ступени.
И снова всунул ключ в замочную скважину и согнутым коленом (потому что в другой руке держал пластиковый пакет с копченой колбасой и хлебом) толкнул дверь — сперва слегка, потом так, что она стукнулась о стену.
В каком-то романе — чей это роман? — английский джентльмен, оказавшись один в джунглях, одевается согласно требованиям этикета к ленчу или к обеду; он вспоминал, а сам нетерпеливо разворачивал на кухне колбасу и отправлял большой кусок в рот.
Только, может, он не читал об этом, может, просто слышал анекдот, потому что в ту минуту, когда он, вспоминая, с жадностью жевал колбасу, ему слышался пронзительный голос жены (как обычно, когда она возбуждена), ее грассирующее произношение и смешки со всех сторон, и среди них хихиканье (нарочито глупое) Ромашкану, который (должно быть, под хмельком) старался обратить все в шутку:
— …Эксцентрик, — смеется Антон, опуская треугольное лицо с крупным носом в бокал вина. — Англичане — маньяки и эксцентрики, как мы читали у Жюля Верна, но тут возникает вопрос… Все дело в том, остались ли англичане эксцентриками, потому что Жюль Верн-то давно умер, а ни один из нас так и не добрался до Англии.
Да, подумал он, пока, сложив лопаткой руку, сгребал с рыжей клеенки крошки, которые бросил затем в раковину. Да, повторил он, похоже, что не так глуп был автор романа (или анекдота), хотя эта история показалась мне в тот вечер такой плоской. Теперь вспоминаю: у меня в руках была рюмка водки, и я зевал во весь рот и почему-то бормотал:
— …У нас в четверть восьмого спрятали табель.
А они не обращали на меня внимания, и все, кроме Ромашкану, сгрудились на кушетке, а он, точно аист, вышагивал по комнате из угла в угол.
И конечно же, стоило мне уйти, произнеся на прощание кисло: значит, в следующую субботу у меня… — они стали обсуждать, как поспешно я ретировался, и увидели в этом — впрочем, как и во всем моем облике — явный признак того, что я постарел.
— Ты заметил? — верно, сказал кто-нибудь из них. — Если посмотреть на него со спины, в особенности когда он возвращается с работы — портфель в руках, ногами шаркает, — точь-в-точь его отец, я даже несколько раз обознался…
Да, подумал он, вынимая из-за окна остатки сыра (холодильник он оставил жене, и стиральную машину тоже, и телевизор), все-таки не так уж глуп был тот, кто написал про англичанина. Ведь иначе не было бы мне так стыдно, неприятно, так не по себе всякий раз, когда я в одиночку заглатываю еду на кухне.
Тут он чуть было не сунул палец в рот, но вовремя удержался, рванул ящик, долго в нем рылся, пока не нашел зубочистку.
Интересно, это у всех людей такой недостаток — все люди видят себя со стороны? Вот он сидит, развалившись, в кресле с отклеившимся подлокотником и жует зубочистку, а потом, когда уже нет сил терпеть, протягивает руку за сигаретами — только одну, чего уж там, все равно открыл пачку — и закуривает, стараясь не втягивать в легкие дым, а полузакрытым глазом внимательно наблюдает за собой.
Итак, каков он со стороны — как он выглядел часа два назад на автобусной остановке у сквера? Издали похож на мальчишку: мальчишка в синей рубахе, в спешке не поправил воротник, с портфелем (взял его по рассеянности, потому что зол на себя — все-таки не удержался и позвонил Веронике), портфель небрежно поставил между ног. Мальчишка — да, уже состарившийся. Мешки под глазами, взъерошенные волосы потускнели, на висках пробивается седина.
Вокруг жилые дома, магистраль, лысый сквер — деревья недавно посажены, — все в закатном сиянии уходящего дня; и девушка, соседка с третьего этажа, тараторит без умолку (как ее зовут? Она ведь сказала. Джета?.. Джина?..).
Да, вот они оперлись на ограду сквера (лето, перламутровый золотисто-розовый свет заката; если обернуться к заходящему солнцу, лицо тут же накроет слепящим красным крылом). Опершись на низкую железную ограду, они лениво перебрасываются банальностями, и хоть он отдает себе в этом отчет, но продолжает говорить — редко, с трудом выдавливая слова. А она (и это слишком явно) счастлива оттого, что удалось завязать разговор; и, встряхивая медными кудрями (при ярком свете бросается в глаза черный пробор на макушке), в шутку, конечно, упрекает его, что он никогда ее не узнает, сколько бы они ни встречались — на лестнице, в лифте или на остановке, — ей первой приходится с ним здороваться.
— …Если идти проходными дворами, до Торгового центра меньше двух остановок… — сообщает она, стараясь говорить естественно, однако это у нее не получается.
Он смотрит оторопело, словно пытаясь сообразить, что же она хотела этим сказать. Но она уже отвернулась, ее свежее круглое лицо обращено к бурлящей толпе; она даже переступает с ноги на ногу, изображая нетерпение.
Даже в сабо на очень толстой подошве она не выше его плеча; блестящий лаковый пояс, стягивающий талию, подчеркивает неожиданно пышную грудь и крутые бедра, обтянутые зеленой юбкой из эластика.
Значит, она уверена, что он тоже идет в Торговый центр за покупками — куда же еще идти в этот час? И набирается смелости, чтобы пригласить его пойти вместе пешком.
И он, немного смягчившись, молча покоряется.
Беспокойство как рукой сняло, исчезло и странное чувство, владевшее им столько времени: ощущение, что настоящая жизнь проходит где-то рядом (близко и все же далеко), что стоит ему сделать шаг, протянуть руку… но вот на это у него нет сил.
— Хорошо бы уехать куда-нибудь, хоть на несколько дней, пуститься бы во все тяжкие, а еще лучше — уединиться, главное — не терять время попусту, — почему-то вдруг сказал он.
Просто сказал свою излюбленную фразу.
Но ей послышалось в этом что-то неуважительное, она бросила на него подозрительнонедовольный взгляд и снова затараторила, а он шел молча всю дорогу до Центра, пропуская мимо ушей ее болтовню.
(И, несмотря на это, ни словом не обмолвиться о ней Веронике — завтра или когда там они увидятся. Обычно, как только в его разговорах возникает женщина, на белокожем лице Вероники появляется кислая улыбка, тогда уж прощай привычный распахнутый взгляд, она смотрит сквозь пушистые ресницы исподлобья, подозрительно. А он, польщенный и чуть испуганный, переводит разговор на другое, потому что ее мрачноватое, угрожающее молчание заставляет его со страхом думать, что вечер испорчен вконец. И когда, не выдержав, он протягивает руку, заискивающе гладит ее грудь или ноги, она гневно, возмущенно отстраняется, обрушивая не него поток старых упреков, он и не пытается защититься — сам виноват в том, что по легкомыслию заставил ее страдать из-за бывшей жены и своих мимолетных связей.)
Итак, ни словом не обмолвиться о Джине Думитреску, соседке с третьего этажа, с которой он случайно встретился на остановке примерно час назад. А главное — не звонить Веронике, в этом-то он тверд: в конце концов, это она отличилась на вечеринке, и, следовательно, ей пристало звонить, угрызаться, пугаться, приходить с объяснениями.
Впрочем, развалившись в кресле и покуривая сигарету, которая уже кончалась, он избегал думать о вечеринке и вообще о Веронике: пришла она домой или нет, звонила ли в его отсутствие, — хотя ей бы следовало позвонить, ведь они не виделись уже два дня. Он вообще избегал о чем-либо думать; болтовня Джины, пока они стояли в очереди за хлебом, неспешная прогулка до дому, пенсионеры, играющие под навесом в шашки, смешанный запах душистого табака и роз у пятиэтажек, освещенные окна кухонь, где собирались ужинать, мамаши, зовущие с балконов своих детей, прикосновение горячей, чуть вспотевшей ладони Джины, когда они прощались, — все это как-то вдруг успокоило его.
К нему вернулось привычное безразличие.
И поскольку спать было рано, а сигарета кончилась, он лениво поднялся, поставил телефон у кровати, вынул из портфеля записную книжку и принялся ее перелистывать.
Задумчиво ощупывая подбородок, проводя машинально пальцами по отросшей щетине (утром, в спешке, некогда было побриться), он выбирал, кому бы позвонить. Конечно, проще всего поговорить с приятелями, что он обычно и делал, впрочем, не хотелось беспокоить их в часы вечернего отдыха или сна, отрывать от телевизора.
— Привет, старик! — кричал он весело, едва заслышав в трубке голос. А в душе был собою недоволен: вот еще одно доказательство его лени и трусости. Любой другой на его месте, почувствовав уже в начале разговора нотки неудовольствия или неискренности, позвонил бы новым знакомым, попытался бы закрепить новые связи.
И то сказать — какой прок от старых друзей? Разве что пригласят в гости.
И вот в строго назначенный час, приняв душ и выпив кофе, он надевал хороший костюм (то есть не тот, который носил на работу) и самую нарядную рубашку и отправлялся в гости (постоянные и многочисленные контакты он наблюдал в прежние времена и у своего друга Ромашкану).