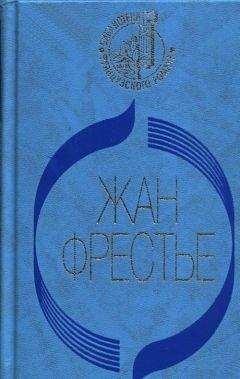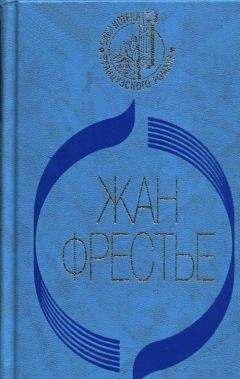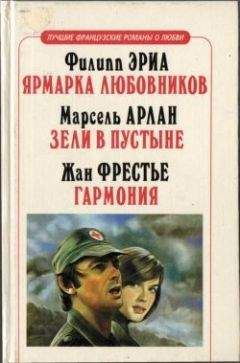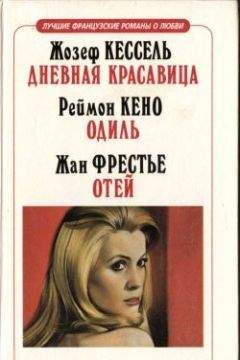Жан Фрестье - Выдавать только по рецепту
Еще два, три дня я был болен, я слышал при пробуждении сигнал тревоги. Настал день, когда я не захотел больше его слышать.
Раз болезнь проявляется при пробуждении, раз достаточно одного укола, чтобы ее одолеть, почему бы не заняться профилактикой. Я сдвинул вперед время первого укола. Я взял в привычку делать последний укол в полночь, а первый — в четыре часа. Практически я больше не спал. Я устраивал так, чтобы лечь в постель как можно позже.
Клэр выбивалась из сил, пытаясь угнаться за мной. Время от времени по вечерам я давал ей отдохнуть. Я уходил один. Путь мой лежал недалеко; я поднимался по своей улице до кафе Виолы. С тех пор как умерла бабушка, Виола взяла к себе племянницу, девочку двенадцати лет с длинными тонкими ногами и длинными косами. Я устраивался с ней в уголке кафе, помогал ей делать уроки, затем к нам подсаживалась Виола с бутылкой рома и коробкой домино, и мы играли длинные партии, пока девочка не засыпала на стуле.
Вечера, когда Клэр сопровождала меня, были еще длиннее. После ресторана и кино я хотел идти танцевать и пить в казино. От танцев Клэр быстро уставала.
— Пойдем сядем.
Я провожал ее до стула, тихонько удалялся в туалет, откуда возвращался, полный воодушевления. Вечер снова оживлялся. Я входил, выходил, провожал Клэр до стула. С каждым возвращением я находил свою подругу все более утомленной и поблекшей, втянувшей голову в плечи и сидевшей на стуле, как птица на жердочке. Мне казалось, что она состарилась.
— Может, пойдем домой?
Я умолял: «Еще минутку».
Я оглядывался кругом. В зале всегда находились две-три шумные девицы, которые мне нравились. Почему бы не взять себе одну, которой никогда не хотелось бы спать, которая не одевалась бы скромно в белые блузки и плиссированные юбки, как Клэр? Когда мне в голову приходили подобные мысли, я внутренне улыбался. Я возражал сам себе шуточками, дружескими упреками, которые делают смирившиеся жены своим преждевременно состарившимся мужьям: «Любовница! Скажешь тоже. Тебе нужна компаньонка».
Теперь я больше не испытывал никакого желания. Я даже больше не пытался овладеть Клэр. Сначала я хотел. Я плакал. Потом отказался от этого. Но в виде компенсации и чтобы унизить мою подругу до степени собственного унижения, я делал на ее счет намеки, которые могли бы ее встревожить. Так, я давал понять, что в любви существует наслаждение, сильно отличающееся от того, какое она могла бы мне подарить, и когда меня упрашивали объясниться, изображал то смущение, какое являют инвалидам, когда, не подумав, намекают на их увечье. По молчанию, которое наступало между нами, я чувствовал, что удар попал в цель.
Я больше не говорил о свадьбе. Время от времени, оставшись один, я смотрел на кольцо. Нажимал на пружинку в футлярчике, заставлял переливаться для себя одного это обещание счастья. Оно на мгновение прогоняло мои страхи.
Однако в эти летние ночи, когда я лежал рядом с Клэр, на меня вдруг накатывал ужас. Я брал руку подруги, живую, земную руку с короткими пальцами с короткими ногтями. Чтобы забыть о будущем, я принимался разговаривать вслух в темноте комнаты. Я строил планы отдыха. В августе я попрошусь в отпуск. Мы с Клэр поедем на один пляж под Алжиром, у нас будет комната с видом на море, мы будем купаться.
— Ты сможешь поехать?
Она гладила меня по волосам.
— Да, я поеду, найду какой-нибудь предлог. И потом, даже если не найду, все равно поеду. Обещаю тебе.
В августе я внезапно получил приказ прибыть на юг Алжира. Врач из санчасти в Дайе свалился от приступа аппендицита. Тот же санитарный самолет, который должен был забрать больного, доставит меня к месту назначения. Мне дали час на сборы. Это произошло днем. Я не успел повидаться с Клэр.
* * *Еще одна деревушка. На высокогорных плато они попадались десятками, такие одинокие, между такими голыми дорогами, что казалось, будто те никуда не ведут; а за плато — еще более одинокие деревушки. Там дороги были настолько голыми, что терялись в песке, растворялись во всем остальном, что уже не было дорогой.
Дайя с самолета выглядела россыпью блестящих точек на песке вокруг зеленого пятна — пальмовой рощи. На земле это оказались дома из засохшей грязи вокруг больших, словно ярмарочных, площадей с одной-двумя палатками кочевников и стреноженным ослом посередине.
Бывал один утренний час, когда, прогуливаясь вдоль пальмовой рощи под кружевной тенью, ты мог подумать, будто находишься в курортном городе по окончании сезона. Но вечером на самой большой площади, перед фортом, разгоралась ярмарка. Местные жители собирались вокруг бензоколонки и бакалейной лавки, чтобы поиграть на барабане, выпить и рассказать истории, которые они выдумывали под солнцем, между послеобеденным отдыхом и поливкой садов, — невообразимые истории края, где внешне не происходило ровным счетом ничего.
Во всяком случае, в форте ничего не происходило. Утром поднимали флаг; вечером его опускали. Это производилось в тишине перед тремя спаги, стоящими по стойке «смирно». Утром к небу воздевали национальные цвета; вечером их спускали вниз, без барабана и фанфар. Выписали одного трубача из Алжира, но он все не ехал.
Между этими двумя церемониями лежал целый жаркий день, за которым следовал темный и обжигающий вечер. Тут начинался комендантский ужин в саду при офицерской столовой.
В полдень мы чаще всего обедали в подобии столовой, обрамленной колоннами, словно монастырь. Но вечером выходили на воздух. Сад освещался фонарями, словно для представлений на открытой площадке. Далеко не по своей воле я играл роль церемониймейстера. Воздав краткую хвалу кавалерии, я должен был читать вслух меню. Нас за столом было четверо. Во главе сидел комендант. Я — напротив. Два лейтенанта-кавалериста занимали места по обе длинные стороны. Они так походили друг на друга по стилю и манерам, что казалось, будто один из двоих находится здесь лишь для того, чтобы составить пару другому. Мы ели сдержанно, держа перчатки под рукой, готовые натянуть их при малейшей тревоге.
Комендант был из цветных, креол. Хотя никто и не думал ставить ему это в вину, цвет кожи побуждал его проявлять суровость и примерную благовоспитанность. Он строго одернул меня в первый же день. Не помню уже, в какой связи, я сказал «де Голль» вместо «генерал де Голль». В свое оправдание я заметил, что обычно говорят «Декарт», «Пастер». Мое замечание не пришлось по вкусу.
В столовой вопреки повсеместной практике говорили о делах службы. «А когда еще об этом говорить, — пояснял комендант, — я вас никогда не вижу», — и начинал со своими лейтенантами профессиональный разговор, в котором речь шла только о меринах и лошадиных мордах, удилах и подуздниках. Я ничего не понимал в этих конских вопросах. Хватало с меня и того, что я каждое утро ездил верхом, как того требовал комендант.
Каждое утро, на заре, я заставал у двери санчасти двух лошадей и одного спаги. Сначала все шло хорошо; спаги трусил позади меня до последней рощи в оазисе, где мы должны были присоединиться к остальным. Затем мы пускались в карьер до самых дюн. Я оставался в хвосте. Если бы я упал, никто бы этого не заметил, такая подымалась пыль. Я болтался на спине лошади, но не падал. Лошадь шла, куда ей вздумается; по счастью, у нее на уме было только следовать за прочими лошадьми.
В дюнах, согнувшись вдвое от колотья в боку, я спешивался. Спаги начинали стрелять по мишеням. В это время мне стоило большого труда удержать мою лошадь. Она вставала на дыбы, наступала мне на ноги. Однажды она вырвалась, промчалась через стрельбище. Чудом ее не убило. В тот вечер комендант объявил мне с улыбкой, что отправляет меня на двое суток под арест.
Это не доставило мне никаких неудобств. Два дня я ел в своей комнате, пристроенной к санчасти. Обедал я в кальсонах, но не снимал перчаток из-за плохого настроения. Во Франции у меня был друг, который, посещая бордель, не снимал ботинок, если женщина ему не нравилась.
А мне не нравился комендант. Рядом с ним я чувствовал себя вульгарным. Его главным эстетическим принципом была асимметрия, неравенство. Он ездил на лошади с тремя белыми ногами и одной черной. «Три чулка — для царя-седока», — говаривал он. Согласно тому же правилу, он носил монокль и еще портупею, ремень наискось, не имевший себе пары с правой стороны. Его награды теснились с левой стороны, и он всегда надевал только одну перчатку зараз. Если бы он смел, то надел бы одну белую перчатку, а другую рыжую, как его конь.
А у меня были солнечные очки, с двумя стеклами, и две похожие руки. «Два чулка — конь босяка». В сильную жару мне было хорошо только голому. Ничто не могло избавить меня от вульгарности. Я попробовал носить под мышкой легкий стек, как лейтенанты. Но несколько раз его терял. Я плюнул на это.
Я даже начинал себя презирать. Самым презренным во мне я считал эту неспособность носить тросточку. Все остальное касалось только меня.