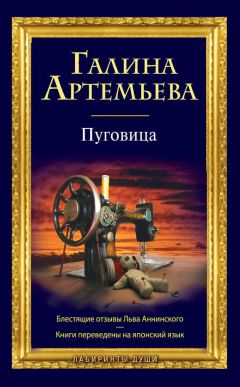Светлана Шипунова - Генеральша и её куклы
Но бывают и длительные периоды спокойствия, и тогда он такой же, как всегда (только похудел и побледнел немного), мы ходим, гуляем с ребёнком, которого он обожает, бываем даже в гостях, и к нам ещё заходят по старой памяти гости, со стороны поглядеть – все у нас нормально, кто не знает, ни за что не догадается, мы особо и не рассказываем, знают только родные и самые близкие друзья. Гоша необыкновенно сильный человек. Он не только не жалуется, он вообще не хочет говорить о своей болезни, он ведёт себя так, будто ничего не происходит с ним, не позволяет никому себя жалеть, сочувствовать. Он намерен победить эту проклятую, неизвестно откуда вязвшуюся болезнь, только надо понять, как. Операция? Или есть ещё какие‑то способы? О, мы, кажется, все перепробовали. Мы были у одного врача–экстрасенса, о котором много писали в те годы, но показавшегося лично мне шарлатаном, а Гоше так хотелось ему верить! Мы были в деревне у какого‑то деда, снабдившего нас отваром из трав, лично им собранных и приготовленных. Всё было напрасно. И наступил момент, когда вопрос об операции уже нельзя было обсуждать, Гоша с трудом мог вставать и страдал от диких головных болей.
Я не помню ни одной своей мысли за те четыре часа, которые я провела в компании со своим деверем, братом Гоши в вестибюле института Бурденко в ожидании, когда окончится операция. Помню только, что я ходила и сидела, сидела и ходила, и бегала периодически в туалет.
Игорь Александрович оказался хорошим нейрохирургом. Но опухоль оказалась злокачественной.
— Что мог – удалил, но все удалить невозможно, у него опухоль не снаружи, а внутри мозга…
И что это значит? А это значит, что через какое‑то время возможен рецидив.
Палата, четыре койки, на каждой забинтованный кокан головы, какой же из них мой? Вот он. Щёлочки глаз, сине–черно все вокруг них. Послеоперационный отёк. Ничего, ничего, главное, ты жив, теперь всё будет хорошо. Бульон из ложечки. Не надо ничего говорить, нельзя. Скоро будем потихоньку вставать и учиться ходить. Руку мне на плечо, не падать, раз, два, три… завтра ещё попробуем. Вот мы уже и в коридор выходим, тридцать шагов до лестницы, там посидеть и тридцать обратно. Скоро нас отпустят домой. У него круглый шов от трепанации через всю левую половину головы, аккуратный шов, с дырочками от сверления по бокам. Какой он смешной, наголо остриженный, уши большие, шея тонкая… Ничего, ничего, волосы отрастут, главное – ты жив!
Вот мы и дома. Никто не верит, приходят на него посмотреть, он смеётся, разговаривает, рассказывает об операции так легко, отстранённо, будто это не с ним было. Ещё месяц–полтора, и пойдёт на работу.
— Может, не надо?
— А кто семью будет кормить?
Кормилец нашелся…
Доктор сказал, что лет через пять, скорее всего, понадобится повторная операция, но мы пока об этом не думаем. Пять лет впереди! Это ж целая жизнь!
Да, жизнь, но какая… Сначала всё идёт хорошо, Гоша даже работает, в банке его ценят как толкового работника, но и сочувствуют, стараются не перегружать. Раз в полгода мы ездим в Бурденко, проверяемся. Пока все нормально. Приступы бывают, но редко, совсем небольшие, называются на французский лад «птималь» (маленький), вдруг снова один за другим сотрясают его большие, судорожные припадки. Опять Москва, опять томограф, и Игорь, ставший нам почти родным, качает головой: растет… Дальше – инвалидность, пенсия в 29 рублей, он дома, я – на работе, целыми днями, иногда и ночами, ребёнок – в саду или у бабушки, я боюсь его с ним оставлять, мало ли что… Он злится, нервничает, раздражается, иногда становится невыносимым. Но надо терпеть, ему в любом случае хуже, чем мне. А главное, безумно жалко его, за что ему это, вот за что? Он по–прежнему не терпит разговоров о своей болезни, ни с кем, кроме меня и врача эту тему не обсуждает. Пришёл вызов из Бурденко на повторную операцию, он его даже мне не показал, порвал и выбросил.
— Ничего я больше делать не буду.
Почему‑то был уверен, что второй операции не перенесёт.
…Последний год был особенно тяжёлым, я очень уставала на работе и дома, появились головные боли, не хватает только мне самой свалиться, отпуск взяла в середине октября и затеяла дома ремонт, стала обои переклеивать, окна красить (мы жили к тому времени в собственной двухкомнатной квартире на девятом этаже). Гоша наблюдал с дивана за моими потугами и ругался:
— Ты не так клеишь, косо, а я даже помочь тебе не могу, брось, не клей!
Я все же доклеила, и у меня ещё оставалась неделя от отпуска, к тому же, надвигались ноябрьские праздники, и мне вдруг захотелось уехать хоть на несколько дней к морю, отдохнуть от всего, от всех, и от Гоши тоже. Он не возражал, даже поехал провожать меня в аэропорт, так хорошо себя в тот день чувствовал. Уже прощаясь, спросил:
— А ты не думала о том, чтобы нам вместе поехать?
Стало стыдно, что я бросаю его, но… все уже решено – билеты, гостиница, и мне надо, надо хотя бы три–четыре дня побыть одной, иначе я сойду с ума. Ребёнка отвезла к бабушке (Гошиной маме), ей же наказала позванивать ему постоянно и по возможности заехать, посмотреть, как он.
Я провела у моря, в гостинице города С., всего три дня. Гуляла, дышала, старалась ни о чём не думать. Ночью, с 7–го на 8–е, проснулась сама не знаю, от чего, за окном было темно, включила ночник, посмотрела на часы, ровно 4 утра. Спать не хотелось, и было как‑то не по себе. На тумбочке у меня лежала захваченная с собой книга «Мёртвые души», но не поэма Гоголя, а её критический разбор каким‑то литературоведом. Я стала её читать, потом подумала: что я тут делаю вообще? Ночь, «Мёртвые души», гостиница, чужой город…
Утром первым делом побежала в редакцию местной газеты, где были у меня друзья, чтобы позвонить домой. Дома не отвечали. Был праздник, 8 ноября. Я подумала, что Гоша мог с утра пораньше поехать поздравить родителей и проведать ребёнка. Но и у родителей его не было. Я стала обзванивать всех, кого могла, у кого были телефоны и к кому он мог пойти. Нигде его не было, ни к кому он не приходил и никому не звонил. Наконец, отозвалась (проснулась!) соседка по лестничной клетке, сказала, что вчерашний вечер Гоша провёл у них, выпили, посидели и где‑то в час ночи он пошёл к себе.
— Оля! – сказала я, чувствуя, что сердце у меня останавливается. – Иди посмотри, ключ торчит изнутри или нет?
Она пошла. Я ждала у телефона.
— Ключ изнутри, — сказала Оля. — Я звонила и стучала, там тихо.
Приехали родители и брат, взломали дверь. Гоша лежал на спине, простыни под ним были смяты и перекручены, видимо, был сильный приступ, который он пытался перебороть, но не смог. Врач сказал, что всё случилось часа в 4 утра. Когда я примчалась, отмахав на редакционной машине 300 километров, была уже ночь, его увезли. Я увидела его только на третий день к вечеру, когда одетого в серый костюм и галстук в красную крапочку его привезли для прощания домой. Глаза его были открыты, и мне пришлось самой их закрыть, придавив двумя монетами. Лицо его было спокойным и красивым, как никогда.
В те, самые тяжёлые мои дни, когда казалось, что отчаянью не будет ни конца, ни края, я пыталась утолить боль перечитыванием давно знакомых стихов, но ничего не получалось. Вспомнив, к примеру, кочетковское «С любимыми не расставайтесь!», я прорыдала весь вечер, и долго потом, как колеса поезда, стучали в моём мозгу строчки –
И каждый раз навек прощайтесь,
И каждый раз навек прощайтесь,
Когда уходите на миг…
Как могла я уехать и оставить его одного, я, столько раз за эти годы спасавшая его от самого страшного, как могла я в день и час его смерти, быть так далеко от него? Мне говорили: это всё равно случилось бы, рано или поздно. Ещё говорили: он не хотел, чтобы ты видела его смерть, он избавил тебя от этого зрелища. Все же я никогда не могла простить себе, что оставила его одного. Вот уже много лет каждую ночь я просыпаюсь ровно в 4 утра. Иногда я встаю, хожу по дому, потом снова ложусь и засыпаю, иногда просто лежу без сна и думаю о разном, обо всём.
Мы прожили с Гошей одиннадцать лет, восемь из них он болел.
Ему было всего 36, когда он умер.
Тем не менее, это — твой дедушка, и я хочу, чтобы ты о нём знала.
8
Шёл второй день поисков Мирославы, но ничего существенного узнать не удавалось. По–прежнему неясно было, с кем и куда она уехала, почему не звонит и не возвращается. Мифическая блондинка Инна все ещё не появилась на улице Мимоз, хотя там, можно сказать, глаз не смыкали, карауля подозрительную соседку. Сотовый телефон в Москве, по которому Мирослава звонила кому‑то в субботу утром, по–прежнему не отвечал, а поскольку В. В. заявления в милицию так и не подал, то и официального запроса нельзя было сделать. Правда, Лёня по своим каналам попросил московских коллег, таких же, как он, частных сыщиков, «пробить» этот номер, но ответа от них пока не получил. Ни в аэропорту, ни на вокзале билет на её имя не приобретался, значит, все это время она или оставалась где‑то здесь, в черте города, или выехала из него на машине в неизвестном направлении, что проверить не представлялось возможным.