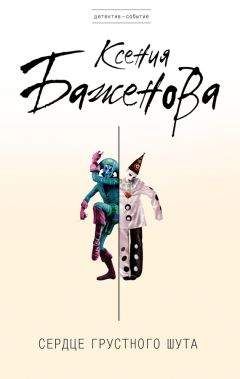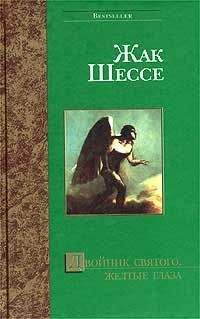Владимир Рыбаков - Тавро
— Так ведь уже час, — ответила Катя.
— Ну? Вот что значит горб гнуть на благо капитализма. Время бежит быстрее денег.
Мальцев с беспокойством прислушивался к своей искусственной насмешливости.
— А почему в России такие плохие урожаи?
Ей нужно было что-то спросить — она почувствовала к этому парню ненависть. Он будил опасные для спокойствия ощущения и воспоминания. Чтоб подавить волнение, стала быстро резать хлеб, и оттого, что были на поле и говорили по-русски, Катя прижала буханку к груди, как не делала уже много десятилетий и стала глубокими округлыми движениями отсекать ломтища. Вспомнилась удивительно ярко бабушка, умершая неизвестно когда. Ее глаза, старше лица, призывали себя соблюсти, их умная угрюмость приказывала быть чистой и бояться Бога в любви к Нему и к людям.
— Почему? Просто без выгоды для человека земля не может полностью себя отдать для урожая.
Полная тревоги насмешливость немного меняла его голос, но Мальцев как будто ничего не замечал. Он поцеловал Кате руку. Вернулся к комбайну и вырубил мотор только с наступлением темноты.
За ужином Мальцев восхищался французской техникой, спрашивал о ценах на землю, о формах кредита. Катя, легко управляя своим огромным, лишенным капли жира, телом, несла на стол блюда и подливала ледяную водку в большой стакан уже по привычке.
Голова Мальцева быстро нагрузилась хмелем, невеселым и не дающим забытья. Глаза потускнели и стали глядеть внутрь себя. Он стал издеваться над собой:
— Садитесь, прошу вас. Прекрасная сегодня погода, не правда ли? Что вы, что вы, дождя нынче не будет. А коммунизм не за горами, уверяю вас.
— О чем ты?
— О чем, о чем. Водка у тебя плохая, вот о чем. Ох, пардон, мадам, она божественна. Катя стерпела. Сказала мягко:
— Не любишь, не пей. Он захихикал:
— Гадость и делают для того, чтоб ее пили. Вкусное каждый может. Ты вот доброй хочешь почему-то быть. Давай, только тебя не надолго хватит. Да и вообще…
Он становился омерзительным, Катя пыталась этого не видеть. «Он несчастный. Надо ему помочь. Трудно ведь. Я ж тоже намучилась».
Катя погладила его волосы, плечи. «А я уж подумала, что он французом стал. Мужик он, настоящий мужик».
Мальцев резко сбросил ее руку. Сквозь побеждавшую его водку он хотел понять, почему он вышел из такой приятной роли быть легким, здешним, привычно вежливым человеком.
Начала тихонько кружиться голова. Он покачал ею, сильно, долго. «Не, ничего у меня не выходит ни в этой стране, ни в этом черном мире. И ничего не выйдет. Ни-че-го».
Скривив лицо, Мальцев поднял глаза на хозяйку:
— Что, хорошо жить на этом белом свете, а? Хо-ро-шо-о-о. Глаза у тебя, ну прямо телячьи.
Мальцев хотел ей сказать, что он вконец запутался, что не только ответы не приходят, но и вопросы исчезают. Приходит пустота, а с ней — скука. Но вместо этого он вновь захихикал:
— Я вот возьму и стану чиновником. Настоящим. А ты останешься между двумя стульями вместе с твоим имением. Нет, понимаешь, ничего, лучше, чем не думать и считать, что это и есть полнота жизни. А ты вот, скажу тебе, невезучая. Здесь тебя все равно иностранкой считают, хоть тресни. Уверен, даже твоим детишкам неудобно, что их мамаша — русская. Ты везде чужая. В Союзе была бы лягушатницей. Ты — пустое место.
Обида в Кате свирепела, клокотала. Мысли путались. Она глядела, как Мальцев нажимал пальцами на глаза, тряс щеками, плечами, будто старался что-то сбросить. Он вяло повторил:
— Пустое место.
Она пожалела, что не может его ударить — не научили, что не может даже его оскорбить. «Почему не могу?» Стала искать, рыться в памяти. И произнесла вдруг слово, которого никогда не произносила, которого, она была в этом уверена, не могло быть в ее памяти:
— Антисоветский ты. Антисоветский.
Катя это слово выговорила с медлительностью и неуклюжестью ребенка, который начал учиться читать.
Мальцев не расслышал. Он засыпал. Он уже спал. Так и не успев напоследок закусить — изо рта у него торчал маленький кусок черного хлеба.
Катя хотела прикоснуться к нему — не зная для чего — и бросилась бежать. Лежа в постели, так и не дождалась слез.
Голова Мальцева раскалывалась. «Вот это перепой! Чем бы опохмелиться?» В бутылке на столе была еще водка, и Святослав, помучившись над ней несколько минут, выпил залпом граммов сто, затрясся привычно. «Теперь надо повкалывать, с потом все и выйдет. Ну и врезал же я. С чего бы это?»
Мальцев почти без перерывов просидел за баранкой весь день. Только первый час от каждого толчка боль перепойная кочевала в нем, искала места понежнее. Затем сила вернулась. «Эх, даешь, не даешь». Было приятно слушать ровное гудение комбайна под собой. Да, здесь земля была послушной — рожала что надо и сколько надо. Ровно ложились золотые квадраты. Мальцев оглядывался, улыбаясь, щурился.
Во время короткого перекура он подумал, что ему сегодня больше, чем вчера, хочется увидеть Бриджит, перекинуться с ней мыслями. Страсть будто иссякла, и нежность сильнее заиграла своими тайнами. Мальцев ощущал их силу и повторил себе, что не сделает первого шага. Он останется здесь, насобирает денег за несколько лет, купит кусок земли, комбайн вот такой в рассрочку, будет со своего порога мудро глядеть на закат.
Проходя мимо катиных окон, прислушался к тишине, поглядел на темноту. «Зайти, извиниться? Но за что? Ну, выпил… Нет, не сегодня». Он вместе с ночью зашагал к бриджитиному дому. Усталость прогоняла мысли, и Мальцев с ней соглашался.
Катя смотрела ему вслед, звала вернуться, но рот не открывался, и рука не дотрагивалась до занавески. Он хорошо работал, пусть закончит начатое, она заплатит сполна, больше, чем португальцам, и пусть уезжает. И тут же решила поехать в Ленинград.
После уборочной Катя закатила пир. Во дворе был зажарен на вертеле ягненок. Мальцев, у которого зажили ребра, весело прохаживался между столами, потягивал водку по-французски, мелкими глотками, приударял за пышной блондинкой, беспечно говорил о себе, как о ком-то в прошлом:
— На Западе, видите ли, вкушают крепкие напитки языком и небом, в Советском Союзе — горлом и потрохами. В этом вся разница. Вкус водки, например, ясен русскому, только когда ее след еще живет в глотке, а она сама уже растекается в груди. Именно поэтому в России пьют залпом и помногу разом. В Европе это привычка, а в Сибири — необходимость. Помню, раз в тайге во время охоты на волков я заблудился…
Мальцев разошелся, выдавал ножевые раны на груди и руках за следы волчьих ласк, начал рассказывать о лагере, в котором никогда не сидел. К ним подошел старший сын Кати.
— Я Клод. Мать мне о тебе много говорила.
Он был выше Кати и много мощнее в плечах. Уважение человека сильного к еще более сильному сразу вошло в Мальцева. Так бывало раньше, и ни разу ему не приходилось разочаровываться. Взаимное уважение бывает лучше дружбы, уважение не требует доверия. Грубое лицо Клода обладало злым выражением, и одно плечо изредка подергивалось. Они быстро нашли общую тему — море.
— Мать рассказала, как ты добрался до суши. Понимаю. Иногда ведь встречаю ваши суда. На берег советские сходят редко. Я знаю, нет у вас там свободы. Плохо там жить. У тебя там никогда не было своего судна?
Мальцев покачал головой:
— Нет. Запрещено. Частная собственность на средства производства запрещена. Идеология говорит, что с ней человек эксплуатирует человека.
— А без нее?
— Государство эксплуатирует человека. Но это я говорю, не идеология.
Клод поморщился:
— Какая там эксплуатация! Я вкапываю с утра до вечера. И это мое судно. Что мое — мое. Горбом заработал — несколько лет выплачивал долги. Конечно, и у нас во Франции сволочей полно, акул сухопутных, но мы свободны. Куда хочу — туда хожу, за кого хочу — за того и голосую, если вообще хочется голосовать. Трудно было, не скрою, но теперь — корабль мой. «Русский» — так я его назвал, потому как меня самого так кличут. Нет, не чувствую себя русским и не говорю по-русски, просто из-за матери меня так зовут. Мне не жалко. Я просто хотел тебе сказать, что понимаю, почему ты сбежал оттуда.
«Что мое — мое. Хорошо сказано. Только сколько людей так думало, пока им головы не поскрутили».
— Слушай, Клод. Я бы хотел вспомнить, что такое море, вернее океан. Ты сможешь меня взять с собой?
Тот подергал плечом:
— Конечно, только работаю один — платить не смогу. Каждый день выхожу в семь утра. Без выходных. Сможешь меня найти в порту напротив булочной. Ладно, потопаю, а то мать уже сердито смотрит. Так, значит, когда захочешь.
В Кате не было веселья. Урожай был хорош, год — знатен, а радости вот не было из-за этого советского мальчишки. К Кате шел сын, а она видела приближающуюся старость. Мальчишка стоял, а она видела приближающийся холод. Душевный. Это было хуже зубной боли. Впрочем, у нее никогда не болели зубы.