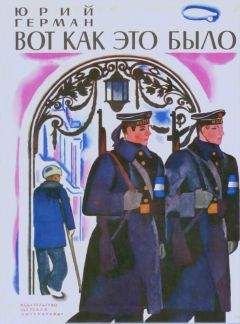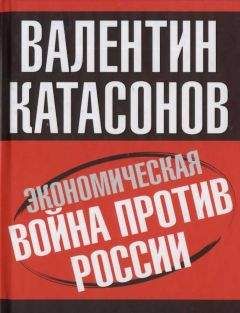Алексей Беляков - Пепел и песок
— Какая квартира?
— Неважно. Расскажите — как идет ваша работа с Мир Мирычем? — Требьенов вытирает нож салфеткой.
— Я ему отдал сценарий. Читает.
— Если все получится, с вас банкет в «Ефимыче», — бросает салфетку на стол.
— Зачем?
— Так принято у нас, творческих интеллигентов.
Берет нож и отрезает мягкий кусок свиной отбивной, вносит бережно в рот и шевелит челюстями, кушает. Бесит, бесит.
— Хорошая здесь еда, — говорит Требьенов сквозь отбивную. — Но надо, наверное, на вегетарианскую переходить. Это сейчас модно в Москве. Некоторые даже начали в Тибет ездить.
— А очки у тебя — тоже потому что модно?
— Конечно. Они без диоптрий. Но смотрите — какая оправа! А что вы сидите? Закажите себе кофе.
— Тут дорого.
— Ничего, скоро вас будет домработница Лилия кормить.
— Роза.
— А я все сам, все сам. Нет у меня ни Лилии, ни Розы. Устроился на телевидение. Помощником режиссера. — отрезает еще кусок томительной свинины. — Вот где жизнь! Люди без стыда и совести. Одни подонки. Самовлюбленные, жадные, наглые. В общем, мне с ними просто. Еще надо научиться палочками есть.
— Зачем?
— Вы не слышали? В Москве уже открывают японские рестораны. Как вы тут живете? Ничего не знаете. Оставались бы в своем Таганроге. Что вам Москва? И зачем… Ой!
Требьенов отодвигает тарелку с умирающей отбивной, смотрит поверх моей головы и шепчет:
— Пришел…
— Кто?
Требьенов меня уже не слышит, он встает и улыбается сквозь дым.
— Добрый вечер! Спасибо огромное, что нашли для меня время.
У столика тяжело дышит Йорген, раскланивается по сторонам, будто выступил с удачной арией. Требьенов холит его взглядом, отодвигает стул:
— Садитесь, пожалуйста.
Я впервые вижу Йоргена, моего будущего мучителя и благодетеля. Рассматриваю пухлый нос, дар папы, и тонкие пальцы, мамин вклад в лихо закрученный ДНК.
Йорген кивает и утомленно бросает на стол ключи от машины. Они подпрыгивают и ловко взлетают на отбивную.
— Ничего страшного! — Требьенов поднимает ключи в соусе, вытирает салфеткой и кладет на стол, как бабочку из старинной коллекции. — Познакомьтесь — это мой друг…
Йорген произносит «очпртно», рассматривая ключи.
Он не догадывается еще, что этот низкорослый человечек, недостойный пока его взгляда, станет самым главным сокровищем, которое он случайно добудет с московского дна. Глядя отсюда, из будущего, я легко улыбаюсь такому знакомству. А пока пусть Йорген будет чуть раздражен: оттого, что не может третий месяц нырнуть в Красном море, и оттого, что нет в стране сценаристов, способных на подвиг.
— Вазген мне сказал, у тебя есть какой-то интересный проект, — Йорген садится, берет зубочистку и направляет шпагой в грудку Требьенова.
— Нет, у меня идея…
— Сейчас любую идею называют проектом, — Йорген смеется и машет зубочисткой — вжик-вжик-вжик. — Под слово «проект» можно больше бабла срубить.
— Да, тогда у меня проект. Эй, меню!
— Не надо меню, я теперь на диете.
— Какой — расскажите! Нам страшно интересно.
И Требьенов вращает зрачками, излучая команду мне: «Уйди, ты нам мешаешь!»
75
Ночь. Я глажу Катуар по волосам. Они тонкие, шелковые, из таких плетутся сети для маленьких земноводных сценаристов. За окном щебечет грустная птичка, или это затейник-мобильный? Кто поймет звуки этого города, кто разгадает шифры, коды, пароли?
— Катуар, птица моя, спасибо тебе.
— Пустяки, любимый. Я же видела, что ты в оцепенении от этого Пезделя.
— Да, бывает. В детстве меня всегда бабушка спасала, а тут столько лет некому было. Пока ты в дверь не постучала. А что это за уморительные галстуки на них были?
— Из конопли. То, что называют в народе пенькой.
— Экологично… Голова вдруг заболела.
— Опять?
— Да. Неприятные ощущения.
— Давай поедем отдохнем?
— Конечно! В Италию. Мою душеньку.
— На море?
— На море. В городок под Неаполем, где ни одной русской скотины.
— Скотини — кстати, вполне итальянское слово. Бон джорно, синьор Скотини! У вас не найдется пары лир — для меня и моей подружки?
— В Италии уже давно не лиры, а евро.
— Да? Какая неприятность.
— Ты не была в Италии?
— Я даже на море никогда не была.
— Едем!
— У меня нет загранпаспорта.
— Бесишь, бесишь! — я смеюсь. — Но его делают за месяц. Поедем сразу после «Кадропонта».
— Любимый, не спеши. Может быть, я в розыске?
— Каком розыске, Птица? Я тебя уже нашел.
— А может тебе поехать лучше в свой Таганрог?
— И что там делать? Что?
— Ты сколько там не был?
— Очень давно. Я даже на похороны бабушки не приезжал.
— Почему? — Волосы Катуар ускользают из-под моей ладони, она поднимает голову.
— Я тогда писал срочный сценарий, надо было спасать проект…
— Интересно, а на мои похороны ты приедешь?
— Перестань, Катуар!
— И что, спас проект?
— Да.
— Молодец. — Катуар садится, и дыхание ее учащается, а нос становится острее.
— Катуар, ложись, будем молчать и смотреть на звезды, которые ты расклеила на потолке. Интересно, что сказал бы дизайнер Брюлович?
— Когда ты собираешься писать вторую серию?
— Не знаю… Уже надо… Йорген сегодня звонил. Мы с тобой занимаемся чем угодно, только не второй серией.
— Но я же сказала — я не буду тебе помогать.
— Я думал — ты это так… минутная птичья вздорность.
— Нет. Не так.
— И как мне быть?
— К тебе сегодня целых пять прекрасных диалогистов приходило.
— Кстати, все же интересно, кто дал им мой сценарий?
— А мне интересно сейчас совсем другое.
— Что?
— Марк, ты сегодня сказал одну фразу, она меня очень обрадовала.
— Какую?
— Что ты не Марк.
— А почему она тебя обрадовала?
— Нет, не обрадовала — обнадежила.
— Почему?
— Ты словно выздоравливаешь.
— Да. У меня есть пара заветных лекарств в ванной. В баночке и тюбике. Я посмотрю на них, и мне сразу…
— Но скажи: зачем ты разрушил здание Университета?
— Катуар, давай все-таки придерживаться какой-то линии в нашем диа… в нашем разговоре.
Катуар левой ладонью касается правого глаза, тревожит ресницы. Я теперь ясно вижу ее лицо: оно отражает жар холерного города.
— Зачем ты его разрушил?
— Слушай, перестань! Вон — посмотри за окно! Стоит оно во всей красе. Никуда не делось. Катуар, ты плачешь, что ли?
— Зачем? Ведь в нем живет твоя дочка.
76
Мир Мирыч укладывает листы на стол, где запеклись чернильные пятна забытых слов и цифр. Отодвигает листы к краю бездны. Глядит на меня сквозь жестокие полутемные очки, не шевелится. Залепить бы эти очки тугими бабушкиными блинами. Ударить бы эту тварь в вальяжном пиджаке сковородой раскаленной. И потом закопать во дворе НИИ Тракторостроения в целлулоидном мешке — я уже присмотрел там местечко: пустую круглую клумбу, отороченную кирпичными углами. И табличку на осиновой палке приладить «Здесь погребена моя тысяча долларов».
— Ну что? — Мир Мирыч вынимает из шахты пиджака упаковку с голубыми таблетками. — Я прочитал твой сценарий. — Щелкает, добывает таблетку. — И долго писал? — Проталкивает голубую таблетку между губ.
— Недели две… Мне надо было почитать литературу всякую… историческую.
— Слушай, а у тебя вообще сколько баб было?
— Семь.
— А теперь честно? Режиссера не обманешь.
— Три.
— Я просил — честно.
— Одна. Два дня назад.
— Первый раз, что ли?
— Да.
77
Покажем, Бенки, этот удушливый эпизод, пусть посмеются над Марком.
Родители Хташи уехали в Германию. По приглашению Гейдельбергского университета Профессор Бурново делает доклад о Бенкендорфе на конференции «Немцы в России, 500 лет вместе». Заодно лечит язву и тискает старую подругу Гретхен в чистеньком туалете. Жена-адъютант рядом, за дверью, с термосом дивного чая для гения-мужа, толстой визитницей и носовыми платками синего цвета.
В честь этого сегодня я триумфатор в профессорском корпусе МГУ.
Роза накрыла на стол. Что там? Свиная отбивная, с кровью, как я люблю. (Да, Требьенов, закуси своими модными очками, похрусти стеклышками!) И огромное блюдо с сырами, моими милыми тварями, желтыми, белыми, зеленоватыми. Хташа мастерски приманивает хромого мизантропа. Мымра-искусница.
— У меня есть итальянское вино, хочешь? Сыр очень хорош с вином.
— А водки нет?
— Нет, извини. Ты пьешь водку разве?
— Нет. Но хочу попробовать.
— К водке нужна другая закуска.
— А сыр нельзя?
— Ты смешной, ты совсем не гурман.
— Нет, совсем.
— Надо тебя этому тоже научить. — Хташа поправляет зеленые тарелки на белой скатерти, формирует окончательную симметрию. — Ой, вспомнила! У папы в кабинете должна быть водка. Ему же с язвой больше ничего нельзя. Только она теплая, он не любит холодную.