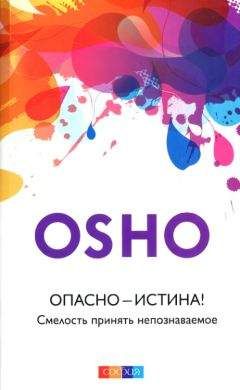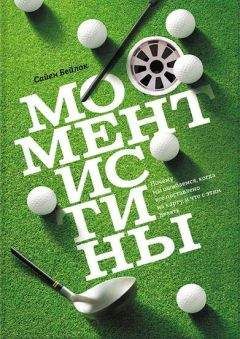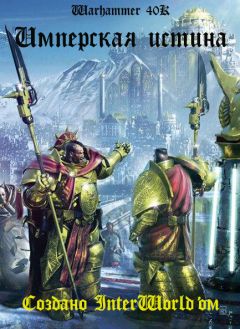Джойдип Рой-Бхаттачарайа - Сказитель из Марракеша
И тогда даже новичку очевидно: непостижимое существует и заявляет о себе формой жизни, испокон веков известной на площади Джемаа. Непостижимое — сердце Джемаа, и новичок поставлен перед этим фактом, и после первых секунд, по многочисленным рассказам, подобным откровению, для него остается только одно — собственные отношения с Джемаа. Как говаривал мой отец, человек впервые смотрит на Джемаа с любовью, сходной с той, что сквозит в улыбке возлюбленной. В нашей обители страстей и разнузданных соблазнов, где чувственность является высшей формой выражения, есть особая гармония человеческой природы и человеческой совести. Это порядок вещей, основанный на непосредственности и доверии. От Джемаа не требуют правды — только пищи.
Барабаны в ночи
Барабанная дробь возвещает: ночь пришла. Звук разносится на многие мили — черный, трепещущий, как пленная птица; он пульсирует и сгоняет тьму к краям точно пену. По всей Джемаа открываются невидимые двери, говоря: будет новое начало. Запреты отступают рядами, молча; расстегиваются пуговицы и пряжки ремней, вспыхивают и гаснут улыбки, смех неведения молкнет враз, словно от кинжала, ибо неуместен перед лицом столь внезапной перемены. Луна перемещается в самую середку звездного купола. Дым костров пропитывает мостовую; подсвеченный, завивается спиралями, сгущается до состояния тумана. Каждую ночь бендир, гуэдра и дефф объединяются, дабы темная мозаика, подобно музыке лишенная рамок, заставляла колотиться сердца и проникала прямо в души. Ничего похожего вы больше нигде не услышите, и не надо противиться чарам — это бесполезно.
В пустыне, до которой рукой подать, завывает ветер. Он ревет на вершинах Атласских гор, по скалистым уступам проносится к побережью Атлантики. Но даже ветер капитулирует перед ночными барабанами на Джемаа-эль-Фна.
Кофейный аромат «Продай душу»
— На улице Мохаммеда Пятого, сразу за отелем «Айслейн», напротив мечети Кутубия, там, где сейчас располагается просторное, светлое здание книжного магазина — в числе прочего там продается Коран, — раньше находилось круглосуточное кафе-мороженое в западном стиле, со стеклянными стенами. Может, кто из вас и помнит его. Это была одна из тех прискорбных новинок, что строятся на Джемаа с целью получить быстрый доход от туристов. Называлось кафе «Лабес», что значит «Привет». Там работал Махи, младший сын моего друга Махмуда. Мы с Махмудом — односельчане, только он много лет назад обосновался в Марракеше. Здесь появился на свет и вырос Махи. Сомневаюсь, чтобы этот юнец, дитя марракешских улиц, хоть раз потрудился съездить на родину отца.
В ту ночь, когда мой брат Мустафа следовал за парой чужестранцев, у Махи как раз была смена в «Лабесе». Его напарник повредил руку и отпросился пораньше, так что Махи дежурил в кафе один. Я столкнулся с Махи, когда искал Мустафу по всей площади, не в силах далее занимать слушателей историей; Махи рассказал о встрече с моим братом. Разговор состоялся глубокой ночью, когда Махи после смены шел домой.
Двое чужестранцев, сказал Махи, заглянули в кафе часов в десять вечера. Они вели разговор приглушенными голосами — кажется, ссорились. Мужчина казался усталым и огорченным, на Махи даже не взглянул, а женщина нарочито придирчиво читала меню и наконец заказала два шарика мороженого с кофейным ароматом «Продай душу» и ела с видимым удовольствием.
— Удалось ли тебе расслышать, о чем они говорили? — спросил я.
— Всего несколько фраз, — отвечал Махи, — и то лишь тогда, когда женщина переходила на французский. Сначала она произнесла: «Мое терпение очень глубоко, но и в нем уже просвечивает дно», — потом: «Отчаяние для меня слишком большая роскошь».
— Отчаяние? — переспросил я. — Ты уверен, что не страх? Ты не ослышался?
— Абсолютно уверен, — подтвердил Махи и добавил: — Расплачивался, кстати, мужчина, и женщина заставила его дать мне на чай, хоть я их и не обслуживал. Они все время простояли за стойкой.
— И потом ушли? — разочарованно спросил я.
— Нет, женщина еще ела, когда появился твой брат.
— Мустафа?
— Он самый.
— И что случилось?
— Твой брат взглянул на женщину и застыл на полпути словно громом пораженный. Руки его бессильно повисли, он побледнел так, что я подумал: сейчас сознание потеряет. Однако Мустафа кое-как добрался до стойки и спросил воды. Вот его слова: «Махи, налей мне воды, да поскорее», — а голос был хриплый и слабый. Когда же я протянул ему стакан, он отпил половину одним глотком, а остальную воду плеснул себе в лицо. Если таким образом Мустафа хотел привлечь внимание, лучшего и придумать было нельзя, ибо чужестранцы в изумлении уставились на него. Не теряя времени, Мустафа отер лицо и поднялся. Он обратился сразу к женщине — спросил, как ее имя, откуда она, долго ли намеревается пробыть в Марракеше. Все вопросы были заданы на одном выдохе. Мустафа как будто вовсе забыл о присутствии мужа чужестранки. Муж, кстати, смотрел на него с иронической гримасой, будто давно привык иметь дело с типами, которые с первого взгляда влюбляются в его жену.
Женщина отвечала вежливо и сдержанно и вскоре отвернулась, но Мустафа подскочил к ней и схватил за руку. Женщина распахнула ресницы, а Мустафа улыбался так, будто его живым на небо забирали.
— Лабес! — выдохнул он. — Ты счастлива?
Не вполне понимая вопрос, женщина вырвала руку и неуверенно отвечала:
— Альхамдуллилах — слава Богу, счастлива.
— Ты знаешь арабский?
— Да. Хочу стать переводчиком и работать в ООН.
— Великолепно! Замечательно! — воскликнул Мустафа и впервые обратился к чужестранцу. — Салам алейкум, — заговорил он хриплым, страстным шепотом. — Твоя подруга прекрасна. Прекрасна, как газель, что водится исключительно в высокогорных рощах. Что за глаза! Влажные, словно озера в оазисах! Словно озера, которые одни и могут утолить мою жажду!
Тут Махи сделал порывистый жест, подражая моему брату. Следующую фразу Мустафы он повторил с плохо скрываемым волнением:
— Сколько ты за нее хочешь?
Вот что мой брат сказал чужестранцу.
— Я сразу сообразил, — признавался Махи, — что твой брат не шутит, однако женщина, которая единственная поняла смысл предложения, сделанного на арабском языке, только рассмеялась над его нелепостью.
Все еще смеясь, она стала переводить слова Мустафы, а тот слушал, расширив зрачки, упиваясь каждым звуком ее голоса. Наконец женщина замолкла, и тут пришел черед смеяться мужу. Ни на йоту не уступая в учтивости своей жене, чужестранец отвечал с предельной лаконичностью, словно Мустафа был капризным, несносным ребенком.
— Благодарю, — вежливо сказал чужестранец, — однако вынужден отказаться.
Мустафа побагровел, глаза засверкали точно уголья.
— У меня в Эс-Сувейре мастерская, — продолжал он, игнорируя слова чужестранца. — Я делаю светильники с кожаными абажурами. Я совладелец отеля, расположенного прямо на побережье. И то и другое я отдам в обмен на твою женщину. Ты не пожалеешь; доходы не разочаруют тебя.
Переводя слова Мустафы, женщина мучительно покраснела, и чужестранец обнял ее.
— Это полный абсурд, — отрезал он. — Мы польщены, но отказываемся. Пожалуйста, оставьте нас в покое. Доброй ночи.
Позднее, уже в тюрьме, Мустафа признался, что ужасно завидовал чужестранцу, дивился его манере говорить с небрежным превосходством и прикидывал, возможна ли для него самого подобная элегантная небрежность — учитывая, что в каждом слове, каждом жесте и рукопожатии Мустафа всегда усматривал оскорбление и вызов.
Я попытался успокоить брата — напомнил, что причин для зависти нет, ибо Мустафа происходит из древнего берберского рода. Но брат презрительно отмахнулся от моих слов. Вот что он заявил:
— Просто ты, Хасан, его не встречал. Как он держится! Сразу видно — человек из высшего общества. Я рядом с ним — дикарь, туземец в самом плохом смысле слова.
— Откуда в тебе такое благоговение перед Западом? — с болью воскликнул я. — Чем тебя не устраивает собственное происхождение? Мы берберы, имазиген, благородный народ. Мы рождены свободными, никому не кланяемся. Тебе нет причин комплексовать.
По выражению лица Мустафы я понял, что он едва сдерживается.
— Мы берберы! — передразнил он. — Берберы, а дальше что? Я тебе скажу что: наш мирок так мал, что смех разбирает. Разуй глаза, Хасан. Ты хоть раз из Магриба выезжал? Пределы твоего существования ограничены длиной и шириной площади Джемаа. У меня слов нет.
— Слов нет? — переспросил я.
— Нет. Я, как рыба на суше, только воздух ртом ловлю. На Джемаа изо дня в день, из года в год одни и те же провинциалы, темные и зашоренные. Обстановка, вдохновляющая тебя, Хасан, меня угнетает.
Я с достоинством отвечал, что вынужден не согласиться. Джемаа есть тигель для людей и мыслей. Достаточно взглянуть на нее внимательно и непредвзято, чтобы понять: Джемаа — это наш мир в миниатюре; чаша, хранящая все, чем он славен.