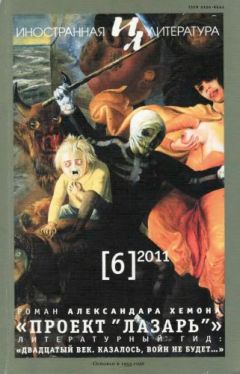Леонид Бородин - Третья правда
— Ну чего распсиховался! Деньги рвать… Поехали в твою Лучиху… Сам же говорил, что Бог того…
Селиванов затих.
— Худо мне, паря! Страсть как худо! Жить не охота!
— Ну чего, понять можно… друг помер…
Он подошел к Селиванову, положил руку на плечо.
— Поехали, а то начальник мой спохватится…
Селиванов выпотрошенным кульком поплелся к машине, вполз на сидение, откинулся и закрыл глаза.
За конторой промхоза в прицепной кузовок трактора грузились двухсотлитровые бочки. Оболенский вертелся возле хмурый и чумазый.
— Со мной поедешь! — крикнул Селиванов еще на подходе.
— Не! — замотал головой Оболенский. — На базу. В широкую падь иду, бочки вон…
— С… я хотел на твои бочки! Со мной поедешь, говорю! Машина стоит!
— Ух ты! — восторженно откликнулся тот, заметив «Волгу». — Не могу, Селиваныч! Начальник и так орал уже…
— А я на начальника, знаешь, что положил! За шиворот потащу!
И он потащил.
— Э-э! Ты куда его! — заорал вывернувшийся из-за кузова мужик, начальник участка Широкой пади. — Ты что, Андриан Никанорыч, сдурел, что ли! У меня в тайге тонна черники киснет! С кровью трактор вырвал у начальника!
— Забирай трактор, а мне этот нужен! — крикнул Селиванов, таща за собой упирающегося Оболенского. Мужик кинулся в контору. Когда Селиванов с Оболенским уже подошли к машине, с крыльца конторы сорвались в их сторону двое начальников — Широкой и промхоза.
— А ну стой! — крикнул начпромхоза. — Ты чего безобразничаешь, Селиванов! Чего коман-дуешь! А ты — марш на трактор!
Селиванов схватил Оболенского за штаны и оттащил назад к машине.
— Не ори! В милицию его везу! Убийство он совершил! Понятно?
— Чего?! — завопил Оболенский, выпучив глаза.
— Лезь в машину!
Он нагнул голову Оболенского и коленкой поддал под зад. Начальники растерянно переглянулись. Селиванов прыгнул в машину, хлопнул дверью.
Машина рванулась с места.
У крыльца рябининского дома стояло такси, и Селиванов догадался, что приехала Наталья.
— Андриан Никанорыч! Ну как же это так! Почему?!
— Я виноват, — ответил он тихо, уже который раз за сегодня смахивал слезу. — Не должен был его одного в тайгу отпускать! С непривычки сердцем надорвался! Сказывают, упал и все! Легкая смерть, и тому порадуйся! Хоть смерть легкую заслужил…
— Мы даже не поговорили! Господи! И встретили его нехорошо!
— Не плачь! Кто знает, может, и лучше так для него! Не плачь!
Он пальцем вытер ей глаза, а она вся тряслась и захлебывалась от слез. Легко отстранив Наталью, Селиванов вернулся к порогу, где стоял поникший тракторист. Он ввел его в комнату, где посередине на столе лежал в гробу Иван Рябинин. У изголовья стоял священник. Грустно и задумчиво смотрел на умершего.
Растолкав старух, Селиванов сказал громко:
— Ну-ка, подите все на двор, подышите воздухом, родные прощаться будут!
Старухи неохотно попятились к двери, крестясь и перешептываясь, Селиванов нарушал обычай.
— Видишь, кто помер? — сурово обратился он к парню.
— Ага! — кивнул Оболенский. — Это тот дед, который…
— Отец твой!
— Какой отец! — вдруг осипшим голосом почти прошептал тракторист.
— Твой, говорю, родной, которого власть упрятала в чертово логово, когда ты еще родиться не успел! И мамка твоя, родив тебя, сгинула в том же логове ни за что, ни про что. И ты вырос мазуриком чумазым, потому что не было у тебя ни матери, ни отца, а одна только власть народная! Хотя и при том мог бы человеком вырасти!
Священник с тревогой слушал Селиванова. Оболенский смотрел на покойника широко раскрытыми глазами. Сзади послышались шаги и всхлипывания. Подошла Наталья, перехватила руками горло. Черный платок размотался у нее на шее и сполз на плечи.
— Ну вот, — сказал Селиванов, взяв ее за локоть и обращаясь к Оболенскому, — а это сестра твоя, а он, значит, брат твой родной!
— Что? — простонала она.
— Иваном его зовут! В честь отца мать назвала, да уж лучше б не делала того.
Оболенский и Наталья смотрели друг на друга в ужасе.
— Селиваныч, это — правда?! — прошептал Оболенский.
— Хуже правды… — ответил тот печально и, обойдя гроб, стал у изголовья, рядом со священником.
— Ваня, Ваня… — покачал он головой. — Нынче понимаю я, за что тебе жизнь такая выпала! — Он помолчал. — Это ты все мои грехи взял на себя! И расплатился, и помер за меня раньше времени! А всю жизнь думал да гадал: чего леплюсь к тебе, чего цепляюсь? И сам не знал, подлец, что душу чистую приблизил для спасения своего!
Священник тихо возразил:
— Каждый за свои грехи сам ответ держит!
— А у кого их нет, тот чужие на себя берет!
Священник перекрестился и промолчал.
— И муку за ваши грехи, — кивнув Наталье и Оболенскому, продолжал Селиванов, — и эту муку он тоже взял на себя! И, видно, еще что-то, больно много ее было, муки той, для одной чистой души! А чем отплатим ему?! Ваня! Ваня!
Закричав, бросился вон Оболенский. Наталья выбежала за ним.
— Не нужно отчаиваться! — сказал священник. — Жизнь Богом дана, и Он знает, зачем…
— Бог знает, да не говорит! Ведь даже тебе не говорит! А мне уж и подавно не услыхать!
В окно было видно, как подъехала к дому грузовая машина, отделанная черным крепом. Из машины выпрыгнули мужики и стали выбрасывать еловые ветки…
— Ну вот! Выстелят тебе, Ваня, сейчас последнюю твою дорожку хвоёй таёжной… Мне бы, что ли, помереть уж заодно…
7
Был закат. За деревней все лежало уже во мраке, зато она золотилась и сияла, как чудо-град в море-окияне. Особенно светились рябины. А сквозь их листву полыхали кострами окна. Все прео-бразовалось, даже проржавевшая рукоять рябининского колодца и та будто позолотой покрылась.
Селиванов сидел на ступеньке крыльца, и ему казалось, что он — один большой, немигающий глаз, видящий все вокруг, наблюдающий за всем, но никак не участвующий в жизни. Через час-другой стемнеет, люди, что воют песни в доме, разбредутся, и он останется один на один с ночью.
Собаки, привязанные около дровенника, встретившись с его взглядом, чуть шевельнули хвостами, но он никак не ответил им. «Продать их надо!» подумал он. И то, что такая невозмож-ная мысль пришла ему в голову, не удивило его. Ведь как было: когда засыпал могилу, в земле камень оказался, а когда он по гробу стукнул, Селиванов в груди боль от удара почувствовал, потому что хоронил и самого себя. А когда гроб из дому выносили, почему он подумал: «Зачем такой длинный?» — Потому что на себя примеривал! А когда гроб опустили, он долго не мог команду дать, чтоб засыпали… Разве не подумывал рядом лечь? Почему ворчал, что узка могила, — поленились мужики?
Но было в душе и нечто другое, что никак мыслью не оборачивалось и мешало додумать вопрос о своей жизни.
Шатаясь, вышел из избы Оболенский. Его перед тем вымыли, постригли и переодели. Пока рта не раскрывал, казался вполне приличным. Но ведь, сукин сын, матюгнулся, когда гроб в сенях углом зацепился за наличник. Снес бы ему башку, не держи он гроб…
Увидев Селиванова, проковылял к нему, остановился в двух шагах.
— Я на тебя, Селиваныч, теперь всю жизнь зло иметь буду!
— Ишь ты! — удивился тот.
— Пошто сразу не сказал, что отец он мне? Какое право имел?
— А ты какое право имел балбесом вырасти? Из детдома сколь хошь людей выходит, а ты свиньей выполз! Тебя отцу родному стыдно показать было! Да он, может, от тоски с твоего вида в тайгу помирать подался!
— У меня вся жись поломанная! — хныкнул Оболенский.
— Каждый свою жизнь сам ломает и чинит! — буркнул Селиванов и махнул рукой. — Иди, лакай самогон! Праздник тебе, нажраться можешь до синих белков!
— А мне, может, он сегодня в горло не лезет! Я, может, тоже помереть хочу!
— Ты-то! — презрительно сплюнул Селиванов и вдруг встрепенулся. — А может, и взаправду помереть хочешь! А?
— А чо! Запросто… — не очень уверенно подтвердил Оболенский. Селиванов вскочил.
— Слушай, паря! Нету здесь нам с тобой простору! Айда в Слюдянку! Там ресторан! Музыку закажем такую, чтоб Иван оттуда услышал! Душа-то его теперь над всем миром летает, все слышит, все видит! Нешто здесь с ней поговоришь!
Он схватил парня за рукав, и они почти побежали от дома в сторону тракта.
Громадный скотовоз заглотнул их в свою кабину и помчал прочь от солнца, которое перед заходом цеплялось за вершины сосен.
Они ехали и орали похабные песни, старик и сопляк, а шофер сначала было насторожился, но потом загоготал и стал подпевать. В тряске Селиванова развезло, он то и дело замолкал и тупо вопрошал: «Куды едем?» Оболенский орал шоферу: «Куды едем?». Тот ржал и кричал: «В вытрезвитель!». На полдороге их захватили сумерки. Шофер включил фары. Когда в их лучах рисовалась встречная машина или мотоцикл, Селиванов хватал шофера за рукав и кричал: «Дави! Дави его, гада, чтоб не отсвечивал!» Оболенский стал клевать носом, Селиванов бил его локтем в живот, тот вскрикивал, стукался лбом о дверку кабины, матюгался и снова засыпал. Селиванов же словно боялся остановиться в лихости своей и балагурстве, будто страшился собственного молчания и покоя.