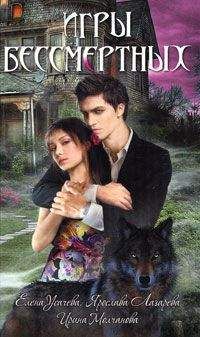Джозеф Хеллер - Что-то случилось
– Что ты сделаешь, если я приведу домой чернокожего дружка? – спрашивает она, стараясь меня поддеть.
Это на редкость искусный удар – чтобы его отбить, требуется молниеносная сообразительность, жена моя, уж конечно, разбита наголову. Податься некуда, и меня одолевает искушение вручить дочери пальму первенства: скажи я – я не позволю, значит, я расист, скажи я – не возражаю, значит, мне безразлична родная дочь. Жена попалась: принимает ее слова всерьез. Мне удается уцелеть: обхожу капкан стороной.
– Я все равно буду покорно просить тебя, чтобы ты убирала свою комнату, – быстро нахожусь я. – И перестала читать мою почту и показывать своим друзьям сообщения банка о состоянии моего счета.
Ну конечно же, я расист. И она тоже. А кто, черт возьми, не расист?
– Это не ответ. – У нее хватает ума рассердиться. – Сам знаешь.
– Вот приведешь, тогда увидишь, – усмехаясь, подзадориваю я. Бросить нам такой вызов она, конечно же, еще не готова.
Ей хочется получить с меня обещание, что у нее будет своя машина. За это она готова пообещать, что бросит курить. Прежде я запрещал ей курить, объяснял, что от этого бывает рак, а потом так устал пререкаться по этому поводу, что махнул рукой – курит, так курит, пусть ее, несмотря ни на какой рак. (Сперва я делал все что мог, как и положено заботливому родителю. А все без толку.) Теперь она (по ее словам) регулярно выкуривает больше пачки в день, но я ей не верю: она и тут может соврать. (Врет она на каждом шагу. И учителям врет.) Но дома ей курить не разрешено, и оттого нам с женой легче притворяться перед самими собой, будто она вовсе не курит. А возможно, она и впрямь не курит. (В сущности, не все ли равно? Мне все равно. И мне не по вкусу, что я вынужден притворяться. Если бы она нам ничего не говорила, мне не приходилось бы притворяться.)
– А я курю, – упорствует она. – Даже затягиваюсь. По-моему, у меня это уже вошло в привычку, наверно, теперь я не смогу бросить, даже если захочу.
– Дело хозяйское, – безмятежно отзываюсь я.
– Больше пачки в день, иногда две пачки. Ты же не хочешь, чтоб я трусила и скрывала?
– Да.
– Что да?
– Хочу.
– Правда?
– Конечно.
– Хочешь, чтоб трусила?
– Да.
– Что ты имеешь в виду? – Глаза ее затуманились, в них растерянность, губы дрожат. Опять я взял над ней верх.
– Конечно же, я хочу, чтоб ты трусила, – говорю я весело. – Чтоб трусила курить, трусила произносить все эти мерзкие срамные слова и выражения, которыми ты так щеголяешь.
– А сам как же?
– Я взрослый. И я мужчина.
– А мама как же?
– Мама такие, как ты, не употребляет.
– Мама уж чересчур скромная.
– А ты еще девочка.
– Мне шестнадцать.
– Пятнадцать с половиной.
– Почти шестнадцать.
– Ну и что?
– Больше тебе сказать нечего?
– Что, например?
– Когда мы спорим, ты всегда норовишь меня оборвать. Тебе кажется, ты это ловко придумал.
– Разумеется.
– Ты все язвишь.
– Будь трусишкой, – язвительно отвечаю я. – Я сейчас и не думаю язвить. Тогда всем нам будет легче. Это совет приятеля, совет любящего отца юной дочери. Будь трусишкой, удирай на крыльцо или в гараж, когда придет охота накуриться табаку или той гнусной травки, или чем ты там еще занимаешься, что хочешь от нас скрыть. И закрывай дверь своей комнаты, чтобы мы не слышали, как ты жалуешься на нас по телефону всем своим подружкам, и не видели гнусных секс-книжонок, которые ты читаешь, взамен того, что требуется читать школьнице. Так тебе многое сойдет с рук. Если будешь как следует трусить. Просто старайся, чтоб я всего этого не знал. Потому что, если я узнаю, я должен что-то предпринять. Должен выразить неодобрение, рассердиться, наказать тебя и прочее, а от этого мало радости и тебе, и мне.
– А тебе почему? – интересуется она.
– Потому что ты моя дочь. Как-никак мне мало радости, когда тебе плохо.
– Вот как?
– Да, так.
– Ха!
– И потом обидно тратить зря столько времени: воевать с тобой, кричать на тебя, – у меня есть дела поинтересней.
– Например?
– Да мало ли.
– А все-таки?
– Работать. Читать журнал.
– Ну почему ты так говоришь? Почему ты так со мной?
– Как?
(Я не знаю.)
– Сам знаешь.
– Нет, не знаю.
(Знаю.)
– Ну почему ты никогда меня не похвалишь, а уж похвалишь – так сразу берешь свои слова обратно?
– За что хвалить?
– Тебе всегда надо, чтоб за тобой осталось последнее слово, верно?
– Нет.
– Вот видишь?
– Больше я не скажу ни слова.
– Теперь ты стараешься все обратить в шутку, – с упреком говорит она. – Ты всегда стараешься все обратить в шутку, верно?
(Мне жаль, что так вышло. И немного совестно. Но стараюсь этого не выдать.)
– Позволь мне теперь поработать, – спокойно говорю я.
– А я хочу поговорить.
– Прошу тебя. Ведь ты помешала мне работать.
– Ты читал журнал.
– Это входит в мою работу. И мне надо разработать программу для следующей конференции и продумать две речи.
– А где она будет, эта конференция?
– Опять в Пуэрто-Рико.
– А я могу тебе помочь с речами?
– Нет, вряд ли. Пока нет.
– Они важнее меня?
– Мне сегодня надо их закончить.
– А мне сейчас надо поговорить.
– Сейчас я не могу.
– Почему?
– Не могу.
– Ну почему?
– Не могу.
– Вечно ты не хочешь со мной говорить.
– Прошу тебя, уйди.
(Теперь я уже понимаю: с детьми у меня мало общего, даже с моими собственными, и я терпеть не могу, когда они втягивают меня в длинные беседы. С детьми мне приятно побыть несколько минут, не больше. Мне трудно заинтересоваться тем, что говорят они, и трудно придумать, что бы такое сказать, что интересно им. Я уже и не пытаюсь.) Иной раз, когда дочь (неизвестно почему) воспрянет духом и чувствует себя уверенно и твердо, она смело влетает ко мне в кабинет без всяких предлогов и извинений и, как будто вообще отношения у нас самые что ни на есть дружеские, по-хозяйски усаживается на диван, словно хочет обстоятельно побеседовать о чем-то важном, и начинает жаловаться на мать – это грубый просчет: она воображает, видно, что, раз мы с женой так часто ссоримся, значит, я обрадуюсь ее словам, приму их как свидетельство ее преданности мне, отцу. (А я не позволяю ей неуважительно отзываться о жене; пора бы уж ей это знать.) Когда дочь была маленькая, я поощрял ее нападки на жену – это получалось у нее так занятно и не по годам умно (жена тоже восхищалась – уж очень смышленая и забавная была малышка), – может, еще и поэтому она теперь так часто это себе позволяет. Но теперь мне это не нравится, и я защищаю жену (даже когда жалобы и нелестные замечания дочери вполне заслужены и справедливы). Или в самом начале резко обрываю ее и, строго отчитав, выпроваживаю. Дочь права: временами мне и в самом деле просто неохота с ней разговаривать. (Она такая придира и наводит на меня тоску. С моим мальчиком куда легче, это все говорят. Он более открытый и великодушный и гораздо больше располагает к себе; он не то что я и дочь – чужие неприятности его не радуют, наоборот, узнав о каком-то горестном событии, он грустнеет, тревожится и с опаской присматривается – быть может, неуправляемый вихрь событий грозит гибелью и ему.) Теперь я подчас сыт ею по горло, просто не в силах больше с ней говорить, не желаю в сотый раз слышать – пусть даже это чистая правда, – что я никудышный отец, жена моя никудышная мать, и дом у нас никудышный, и семья никудышная, и что Дерек (наш слабоумный ребенок) и мы все тоже коверкаем ее жизнь.
Ну и что? Что, если это и правда? (Моя мать была немногим лучше, а отец много хуже – ха-ха. Он умер, и мне пришлось вообще обходиться без него. Ха-ха.) Может, это и вправду моя вина, что она так плохо успевает в школе, не уверена в себе, кусает ногти, плохо спит и даже что так много ест и такая нудная, и жизнь ее так скучна и тягостна. Ну и что из того? (У меня тоже найдутся оправдания.) Какой смысл все это знать? Даже если я с ней соглашусь (а я часто соглашаюсь, просто чтобы озадачить ее и сбить с толку), ничто не изменится, ей ничуть не полегчает. Так чего ради она долбит одно и то же? Надоело все это и ни к чему не ведет, так надоело, что начинаешь лезть на стену (а она явно того и добивается, только это, как ей кажется, она и может сейчас получить от жизни: безжалостно злить меня, вгонять в такую ярость, чтоб я начал заикаться, брызгать слюной, рычать, разражался неистовыми, бессвязными обличениями, которые неизменно зажигают в ее хитрых глазах огонек мерзкого злорадства).
(Чего ей от меня надо?)
– Знаешь, – начинает она, к примеру, обманчиво безмятежным тоном, – по-моему, у меня с мамой уже нет ничего общего. И у тебя тоже. Не понимаю, почему ты до сих пор с ней не развелся. Вы же несовместимы.
(Она даже не понимает, что такое несовместимость.) Если же (к величайшему ее удивлению и досаде) я не дам ей продолжать и выгоню вон, она может тут же отправиться к жене (в два счета затеет самую дружескую беседу) и давай жаловаться ей на меня! (Она, разумеется, не ябеда и не доносчица!) И моя жена, послушная игрушка в дочкиных руках, всему верит, сочувствие к дочери придает ей храбрости, и она влетает ко мне в кабинет, чтобы вступиться за бедную девочку. Дочь, исподтишка усмехаясь, прячется поблизости, с восторгом предвкушает ссору, которая, как она надеется, сейчас вспыхнет у нас с женой. (Моего мальчика, наоборот, ужасает, когда мы скандалим, сразу видно – ему тревожно и тошно.) Пожалуй, больше всего меня бесит, вызывает мстительное желание жестоко отплатить бесстыжий, злорадно выжидающий взгляд дочери.