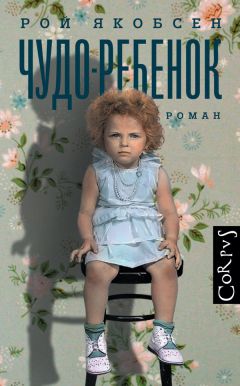Рой Якобсен - Чудо-ребенок
И тут лето кончилось.
Катер отчаливает. Наш катер. Мы уже повидали сотни отъездов и сделали выводы. Уезжать домой с такого острова, как этот, — все равно что выносить рояль из приговоренного к смерти дома, прошлого не вернешь, детство кончилось, и надежды больше нет. Я приехал сюда месяц назад невинным, наивным и счастливым. Со мной была мама. Я уезжаю домой осиротевшим циником, перегибаюсь через бортик и всю долгую дорогу к городу вдоль берега полуострова Несодден всматриваюсь в пенящуюся полосу кильватера, она тянется позади нашего ржавого корыта, под завязку забитого ничего не подозревающими и перебравшими солнца отдыхающими.
Мы тащим матросский вещмешок, ранцы и морозильный ящик через центр города, взбираемся в нагревшийся как тропики автобус и сходим на остановке Рефстад с вещмешком, ранцами и ящиком, в котором больше нет ни сухого льда, ни копченых колбасок, стоим секунду-две в пыли, от которой воняет бензином, и смотрим через Трондхеймское шоссе на жилые дома на Травер-вейен, опознаем знакомые места. Но мы не только опознаем знакомые места; мы слегка удрученно киваем, послушно принимая ту новость, что дома стоят здесь по-прежнему, окутанные странной тишиной. Всегда именно тишина показывает мир в ином свете, нежели его собственный. Тишина снега зимой. Тишина летом, когда у всех отпуск. И вот теперь не наша тишина, чужая, потому что нас в ней нет, мы стоим снаружи и намереваемся вторгнуться в нее с вещмешком, ранцами и покрытыми летним загаром руками, ногами и спинами. Мы входим в наш родной город и не узнаём его, потому что оказывается, что пока нас в нём не было, он всё равно оставался нашим. Мы улыбаемся слегка напряженной и смущенной улыбкой… но всё, нам больше невтерпеж, мы бросаемся бегом. И кричим. Меж корпусов и на лестничной клетке отзывается эхо. Мы хотим слышать эхо. Vox populi людей с гор.
Что, нас никто не встречает?
Нет, никто. Не уезжавшие на каникулы жильцы кооператива не толпятся на балконах и в пролетах дверей, не встречают уезжавших соседей. Жилец кооператива и так все знает лучше всех, пусть он и не касался небес. Небо — оно вот оно. О чем и речь. Так что не морочьте нам голову этим вашим отсутствием и прочими абстракциями! Но письмо хотя бы есть. Лежит на кухонном столе.
И вокруг этого одинокого письма так пустынно, что Ян вынужден открыть и дверь на балкон, и кухонное окно, чтобы позднее лето разогнало духоту… так месяц тому назад мы проветрили палатку. Но и это не помогает. Потому что той, что должна была ждать нас здесь, нету. И жильца нашего тоже нет. Только это проклятое письмо, которое Марлене открывает намеренно медленно, пряча озабоченность. Обычно ей такие вещи удаются, но не сейчас и не со мной: меня теперь на мякине не проведешь. Она разворачивает листок и читает, а потом вскользь бросает в нашу сторону:
— Ну вот. Через пару деньков она вернется.
Тут я делаю то, чему научило меня лето. Отсутствие здесь и пребывание в раю. Я говорю:
— Дай посмотреть.
— Что дать?
— Письмо, — холодно говорю я, желая получить твердое доказательство, что она врет. Но Марлене не может дать письмо мне.
— Она мне пишет, — говорит она уклончиво.
— Дай посмотреть, — повторяю я.
— Оно личное.
— Ну и не надо, — говорю я и ухожу в комнату, чтобы не видеть, как Линде будут втолковывать, что мамки здесь все-таки нет, хотя Линда мечтала о встрече с ней с девяти утра, когда мы начали паковаться и Линда наотрез отказалась уезжать с чудесного острова, от соленой воды и от палатки, так что соблазнить ее Марлене удалось, только пообещав, что и на следующий год лето тоже настанет, но главной приманкой было — сейчас мы поедем домой к маме! Именно об этом она и болтала напропалую весь долгий путь, на катере, и в автобусе, и переходя дорогу, и пересекая пустырь, и поднимаясь по лестнице, только чтобы войти сюда и найти это чертово письмо! Которое Марлене во всей своей непревзойденной дурости тут же открыла и прочитала. Я не могу на это смотреть. Я не могу этого слышать. Я ухожу к себе, и даже не заикайтесь, чтоб я распаковывал вещи. Швыряю ранец на постель, открываю окно, сажусь на подоконник, обнимаю руками колени и высматриваю среди окрестных гор, не появится ли в своем окошке Фредди I и не увидит ли меня. Фредди I не появляется. Фредди I держит марку. Ну и это тоже не беда, если выразиться словами Борисова «дяди».
Глава 17
В нашем кооперативе кто только не живет. У нас есть слепой боксер и слабовидящий таксист. Есть две дряхлые сестры с поседевшей овчаркой, которая гавкает всякий раз, как слышит слово «газета».
У нас есть люди, которые каждую осень собирают 123 тонны брусники и все-таки ухитряются всю ее съесть. У нас полным-полно мелких нарушителей порядка, которые лазают по водосточным трубам и деревьям, строят шалаши и бьют стекла. У нас есть люди, которые собирают пробки от газировки, спичечные коробки и подставки под пивные кружки, но никогда не возьмут в руки колоду карт, ибо это богопротивно. Есть такие, что заикаются и шепелявят, есть другие, кому медведь на ухо наступил, а они всё поют да свистят; есть дама с волчьей пастью и отец семейства, который каждую весну покупает новый «Москвич», воодушевленный духом шестидесятых. Есть такие, что запускают петарды в квартире, распахивают двери пинком и разбивают башку об асфальт. У нас есть даже несколько сторонников «Правых». Мы — целый мир. Земной шар, зверски медленно проплывающий шестидесятые годы, которые сменят пальто и шляпу на разрывающие гитару соло, превратят мужчин в парней, домохозяек — в женщин, а город из старого и обшарпанного, но бережно хранящего память о прошлом станет современным, но больным альцгеймером населенным пунктом; шестидесятые — десятилетие со встроенной функцией износа, социальная дробилка культурной революции в Норвегии, стершая прежнюю систему координат. Запусти в начало шестидесятых поросенка, и на излете их ты получишь спичечный коробок. Расхваленное до небес, оболганное и неверно истолкованное десятилетие, мое десятилетие.
И вот мамка все же наконец заявляется домой четыре дня спустя после нас, четыре дня, которые мы прожили с Марлене. Наша мать, потерянная, с каким-то отрешенным лицом, бледная, в новой незнакомой одежде и с непривычно короткой стрижкой, по-другому пахнущая, обнимает нас, плачет и говорит, что только о нас и думала, скучала по нам, и дозирует эту бодягу порционно между Линдой и мной, что, разумеется, совершенно не устраивает Линду, ей обязательно надо усесться на мамку, приникнуть к ней, но по мне — так и ладно, хоть есть всем нам над чем посмеяться; мамка рассказывает, что у нее что-то было с животом, но теперь она совершенно здорова; мамка возвращается домой из великого ниоткуда, утверждая, что у нее болел живот, и первое, что она слышит от своего столь же потерянного сына: «Не верю». — «Что ты такое говоришь?»
Просто непостижимо, как это взрослые умеют скормить тебе самую беспардонную ложь, а потом оскорбиться, когда их разоблачат.
— Ты была с Кристианом, — говорю я, совершенно не понимая, откуда взялась эта фраза.
— Что ты такое несешь?! — произносит она эхом собственной глупости. Но Марлене чует, что запахло керосином.
— Покажи ему свою руку.
— Что?
— Покажи, и все.
Мамка встревоженно поднимает правую руку и показывает мне болтающийся на ней пластиковый браслет, похожий на рулончик изоленты; на браслете написано ее имя, как я вижу, когда мне удается сосредоточиться, и еще какие-то цифры, но тут она отдергивает руку — как бы опасаясь, что я разгляжу лишнее.
— Один фиг, — говорю я и ухожу.
— Не смей никуда уходить, Финн! — кричит она мне вслед. — Слышал, что я говорю?!
Ну, говори, говори. А Финн уходит. Финнчик. Мамино солнышко. Уходит вниз по лестнице, опять босой, сегодня семнадцатое августа. Все уже вернулись с каникул, завтра восемнадцатого, в среду, начинается школа. Улица полна народом, велосипедами, гамом, смехом, войной и любовью, вперед, к ним. Фредди I белее снега, и он еще подрос с тех пор, как мы уехали от него. Но в руках он держит стальные шарики, показывает их ко всеобщему восхищению и восторгу, а теперь пытается впарить их Раймонду Ваккарнагелю. Но Ваккарнагель знает, что шарики-то не Фредди I, а мои, и велит ему вернуть их — я всегда питал слабость к Раймонду Ваккарнагелю, the good bad guy породившего его десятилетия.
— Я же тебе их только на время дал, — сердито говорю я Фредди I, застигнутому на месте преступления и не умеющему врать так умело, как мамка. — Ты не имеешь права продавать мои шарики.
— Ну, я собирался потом снова их выкупить.
— Это когда же?
— Ну, я не знаю.
Фредди I задумывается.
— А сколько ты мне дашь, если я их тебе верну?
— Но они же мои!
— Да, но ведь сейчас они у меня! — повышает он голос, крепко зажимая рукой правый карман брюк, и я понимаю, что это довод серьезный. К тому же и Ваккарнагель повернулся к нам спиной и занят решением более насущных задач.