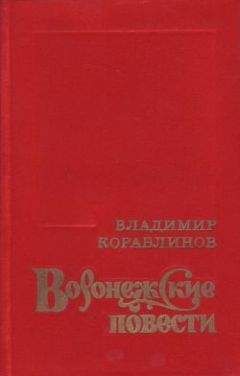Марлен Хаусхофер - Стена
Однажды, когда я сидела над обрывом, мне почудилось, что далеко-далеко из-за елок поднимается дым. Пришлось опустить бинокль, так вдруг задрожали руки. Справившись с собой, я снова поднесла бинокль к глазам, но все пропало. Я смотрела, пока на глаза не набежали слезы и все не слилось в зеленое пятно. Я прождала час, в последующие дни не раз приходила на то же место, но дыма больше так и не увидела. То ли мне померещилось, то ли ветер — день тогда был ветреный — прибил дым к земле. Никогда мне этого не узнать. В конце концов я с головной болью вернулась домой. Лукс, терпеливо просидевший со мной весь день, считал меня, по всей вероятности, скучной идиоткой. Ему это место вообще не нравилось, он всегда пытался увести меня оттуда куда-нибудь еще. Именно увести — мне просто не подобрать другого слова для того, чтó он делал. Он становился передо мной и теснил меня в другую сторону. Или отбегал на несколько шагов, а потом с вызовом на меня оглядывался. И так до тех пор, пока я не сдавалась или он не понимал, что это безнадежно. Может, то место не нравилось ему, потому что там он должен был сидеть тихо, я же совсем не обращала на него внимания. А может, заметил, что наблюдения в бинокль портят мне настроение. Иногда он чувствовал мое настроение прежде меня самой. Конечно же, ему бы не понравилось, что теперь я целыми днями торчу дома, но маленькой его тени больше не вести меня новыми тропами.
Лукс похоронен в лугах. Под кустом с темно-зелеными листьями, которые так нежно пахнут, если их растереть пальцами. Как раз на том месте, где он спал в первый день после нашего туда прихода. Даже если бы у него и был выбор, он не мог отдать мне больше, чем свою жизнь. Это ведь все, что у него было — короткая, счастливая собачья жизнь: тысячи волнующих запахов, тепло солнца, холодная вода ручьев на языке, бешеная погоня за дичью, сон под теплой печкой, когда вокруг дома воет зимний ветер, гладящая рука человека и любимый, замечательный человечий голос. Не видеть мне больше альпийских лугов, залитых солнцем, не вдыхать их аромата. Луга для меня запретны, я никогда не поднимусь туда.
Прекратив походы по чужим участкам, я впала в какое-то оцепенение. Перестала хлопотать по хозяйству и посиживала себе на скамейке перед хижиной, просто глядя в синее небо. Бросила биться и стараться что-то изменить, погрузилась в мирное безразличие. Разумеется, я отдавала себе отчет, что это может плохо кончиться, однако не придавала таким мыслям особого значения. Мне стало все равно, что я живу как на примитивной даче; солнце, бескрайнее высокое небо над лугами и подымающийся от них аромат постепенно превращали меня в другого человека. Наверное, потому-то я ничего и не записывала тогда, что все представлялось мне несколько нереальным. Луга — вне времени. Когда позднее, во время сенокоса, я возвращалась туда из нижнего мира сырого ущелья, мне чудилось, что я возвращаюсь в края, диковинным образом освобождающие меня от меня самой. Все страхи и воспоминания оставались позади, под темными елями, чтобы при каждом спуске наваливаться с новой силой. Как будто раздольные луга дышали сладким дурманом, имя которому — забвение.
Прожив в лугах три недели, я собралась проведать свою картошку. Это был первый прохладный пасмурный день после затянувшегося ведра. Беллу и Бычка оставила в хлеву, задав им корма и налив воды, а Тигра заперла в доме. Предусмотрительно насыпала ему земли в коробку, позаботилась о молоке и мясе. Лукс шел со мной, как всегда. До охотничьего домика мы добрались к девяти утра. Не знаю, на что я надеялась или чего боялась. Все было совершенно по-прежнему. Крапива разрослась и скрыла навозную кучу. Войдя в дом, я тут же увидела на кровати знакомую вмятинку. Обошла вокруг дома, зовя Кошку, но она не откликнулась, а я не была уверена, не сохранился ли след с мая. Так что я заботливо поправила постель и положила в кошачью плошку немного мяса. Лукс обнюхивал пол и кошачий лаз. Но запах тоже мог быть старым. Я распахнула все окна, и в кладовой тоже, впустила в дом свежий воздух. То же самое проделала в хлеву. Потом обследовала картошку. Она дружно взошла, а там, где удобрения не было, была и впрямь не такой высокой и яркой. Было сухо, и картошка не очень заросла сорняками, я решила подождать с прополкой до дождя. Бобы уже тоже вились по подпоркам. Трава на лужайке у ручья была не такой пышной, ей явно не хватало дождя. Но ведь до сенокоса остается еще несколько недель, а стоит пройти дождю — и она наверстает упущенное. Глядя на большую крутую луговину, я совсем растерялась. И думать нечего, что я с ней управлюсь, да еще после долгого пути. В прошлом году она и без дороги чуть не прикончила меня. Не понимаю, как я не подумала об этом в горах. Странно: стоило оказаться в долине, как я начинала думать о лугах чуть ли не со страхом и отвращением, а наверху не понимала, как это можно жить в долине. Казалось, во мне уживаются два совершенно разных человека, один мог жить только в долине, а другой расцветал в лугах. Все это немного пугало, поскольку было непонятно.
Спускаясь в долину, я смотрела за стену. Домика уже совсем не видно из-за кустов. Старика — тоже, его, должно быть, скрыли заросли крапивы у колодца. Мне подумалось, что постепенно крапива поглотит весь мир. Ручей сильно усох. В омутах почти неподвижно стояли форели. Этим летом их никто не ловит, пусть порадуются жизни.
В ущелье — сумрачно и сыро, как всегда; ничего не изменилось. Слегка моросило, в ветвях буков застрял туман. Саламандр не видно, спят, должно быть, под мокрыми камнями. Этим летом я ни одной еще не встречала, видела только зеленых и коричневых ящериц в горах. Одну из них как-то раз поймал Тигр и приволок мне. Он привык притаскивать мне любую добычу: огромных кузнечиков, жуков и блестящих мух. Ящерица была первой его крупной удачей. Он с ожиданием глядел на меня, желтые глаза сияли. Пришлось погладить и похвалить его. А что делать? Я не бог ящериц и не кошачий бог тоже. Я сама по себе, и лучше мне не вмешиваться. Иногда не удерживаюсь и пытаюсь изображать провидение: спасаю животное от неминуемой гибели, а позднее все-таки стреляю дичь, когда нужно мясо. Но лес легко справлялся с моими набегами. Подрастала другая косуля, и другое животное гибло. Как нарушителя спокойствия меня можно в расчет не принимать. Крапива будет преспокойно расти у хлева дальше, хоть сто раз ее выполи, и переживет меня. У нее гораздо больше времени. Когда-нибудь меня не станет, некому будет косить лужайку, она зарастет кустами, а потом лес доберется до стены и отвоюет обратно территорию, украденную у него человеком. Порой голова идет кругом и кажется, что лес пустил во мне корни и думает моим мозгом древние, вечные мысли. И лес не хочет, чтобы люди вернулись.
Тогда, во второе лето, дело еще не зашло так далеко. Границы пока соблюдались строго. Когда пишу, мне трудно отделить теперешнее мое «я» от тогдашнего, то самое теперешнее «я», насчет которого я не уверена, не растворяется ли оно в большом «мы». Превращение началось уже в те дни. В этом повинны горные луга. Почти невозможно оставаться обособленным «я» в жужжащей тишине лугов под огромным небом, вести мелкую, слепую, эгоистическую жизнь, не желающую слиться с жизнью великого сообщества. Когда-то я безумно гордилась такой жизнью, но в горах вся она внезапно представилась смешной и жалкой, этаким надутым ничтожеством.
Спустившись в первый раз, я притащила наверх последний рюкзак картошки и огромные фланелевые пижамы Гуго. Ночи были весьма прохладные, и мне не хватало стеганого одеяла. До избушки добралась к пяти вечера, она серебрилась и блестела от дождя. Внезапно охватило неприятное ощущение, что мне нигде нет места, но через несколько минут все прошло и я снова почувствовала себя в лугах как дома. Тигр разразился яростными воплями и вылетел мимо меня на улицу. Земля в коробке осталась нетронутой, еду он равным образом презрел. Судя по всему, ему пришлось туго. Вернулся он по-прежнему в глубокой обиде, уселся в угол и повернулся ко мне своим круглым задиком. Мамаша его имела привычку выражать презрение таким же способом. Однако Тигр был еще ребенком, и через десять минут никаких его сил не хватило долее отказываться от общества. Наевшись и помирившись со мной, он направился в шкаф. Я же прибрала в хлеву, выпила глоток молока с лепешкой и залезла в постель, облачившись в огромную пижаму Гуго. Хорошо было убедиться, что в долине все в порядке. Охотничий дом стоит на прежнем месте, и можно даже надеяться, что старая Кошка еще в живых. Ребенком я всегда глупо боялась того, что все, что я вижу, исчезает, стоит только повернуться спиной. Все доводы разума не смогли до конца излечить меня от этих страхов. В школе я думала о родительском доме, внезапно представив себе на его месте пустое место. Позже начинала нервничать, если семьи не было дома. Собственно, я бывала счастлива только тогда, когда все лежали в постелях или все вместе сидели за столом. Надежность заключалась для меня в возможности видеть и осязать. Этим летом дело обстояло точно так же. В лугах я сомневалась в существовании охотничьего домика, а когда спускалась в долину, альпийские луга превращались в моем воображении в ничто. Но разве мои страхи и вправду были такими уж дурацкими? Не была ли стена подтверждением детских ужасов? За одну ночь я невероятным образом лишилась всего, к чему была привязана. А если возможно такое, то и все другое может быть. Как бы то ни было, оказалось, что в свое время мне привили достаточно и рассудительности и дисциплины, чтобы подавлять подобные мысли в зародыше. Не знаю, право, нормально ли это; может быть, единственно нормальная реакция на происшедшее — безумие.