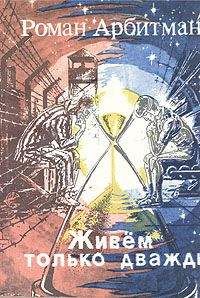Салман Рушди - Стыд
Не нарадуется Арджуманд, глядя на чудесное перерождение, — наконец-то у нее будет достойный отец!
— Это из-за меня,—объясняет она отцу.—Мне так хотелось, чтоб ты переменился, и ты наконец мое желание почувствовал.
Хараппа улыбается дочери, гладит ее по голове.
— Да, такое порой случается.
— И чтоб никаких больше дядей Омаров, — добавляет дочь. — Сорную траву с поля вон!
Арджуманд Хараппа, она же Кованые Трусы, всю жизнь будет бросаться из крайности в крайность. Уже в тринадцать лет она обнаружила дар ненавидеть, хотя умела и подольститься. Ненавидела она Шакиля, эту жирную образину, — сел отцу на шею и вдавил того в самую грязь; ненавидела она и мать: Рани тихо жила в далеком Мохенджо, как крот в норе, и представлялась дочке воплощением неудачницы. Арджуманд уговорила отца, дескать, учиться и жить ей лучше в городе. Потому-то и почитала она отца без меры: разве что не молилась на него. И вот теперь ее божество и впрямь стало достойно поклонения. И Арджуманд не скрывала радости:
— Ты даже не представляешь, на что способен! Ну, ничего, скоро увидишь!
Искандер, окруженный белыми с золотом постельными покровами и беспредельным обожанием, с неожиданной ясностью мыслит вслух:
— Запомни, Арджуманд. В этом мире хорошо живется только мужчинам. Вырастешь, постарайся стать выше своего естества. Женщине в нашей жизни делать нечего, — от его слов веет грустными воспоминаниями — то последним вздохом отлетает его любовь к Дюймовочке. Но дочь принимает его слова как наказ; когда груди у нее станут набухать, она так туго перевяжет их льняными тряпицами, что покраснеет от боли. Потом ей даже понравится воевать с собственным телом, шаг за шагом тесня ненавистную девичью плоть… но оставим-ка мы пока дочь наедине с отцом, пусть она творит в душе легенду о его богоподобии (а после его смерти уже ничто не сдержит это мифотворчество); а отец пусть призовет на свет отныне чистые душу и разум и решит, как достичь грядущего триумфа и как улестить время.
А где же Омар-Хайам Шакиль? Что сталось с нашим окраинным героем? Время не остановилось и для него: ему, как и Дюймовочке, уже крепко за сорок. Однако оно пощадило доктора, лишь посеребрив его волосы и козлиную бородку. Уместно напомнить, что некогда он считался первым учеником, с годами его первенство не потускнело (как в безудержных любовных утехах, так и в работе). Омар-Хайам первый человек в лучшей городской больнице, иммунолог, хорошо известный и за рубежом. С тех пор как мы последний раз виделись с ним, он успел побывать на научных семинарах в Америке, опубликовал работы о возможности психосоматических изменений в иммунной системе организма, одним словом, сделался важным человеком. Он по-прежнему толст и некрасив, но одевается уже с изыском — видно, общение с франтом Хараппой не прошло даром. Омар-Хайам носит только серое: серые костюмы, серые шляпы, серые галстуки, серые замшевые туфли, белье серого шелка — будто скромный цвет поубавит нахальства в его физиономии. Он не расстается с подарком своего друга Искандера — затейливо изукрашенной резной тростью каштанового дерева, в которой сокрыт кинжал, кованный умельцами из долины Ансу.
Спит он по-прежнему очень мало, два-три часа в день, но давний страх (как бы не свалиться с края света!) нет-нет да и навещает его. Иногда даже во время бодрствования, ведь людям, которые мало спят, трудно провести четкие границы меж сном и явью, а еще труднее эти границы соблюдать.
Так и мечутся явь и сон меж пограничных тумб, избегая таможенных постов сознания… Тогда-то и нападает на Омар-Хайама ужасное головокружение, словно стоит он на краю обрыва, а земля под ногами обваливается, крошится — приходится покрепче опереться на трость, чтобы не упасть. Следует еще сказать, что и успех на врачебном поприще, и дружба с Искандером Хараппой в какой-то мере утвердили положение Омар-Хайама, и приступы уре-дились. Но совсем не прекратились — изредка напоминали Омар-Хайаму, что близок он к краю и никуда ему не деться.
Где ж он сейчас? Почему не позвонил своему закадычному другу, почему не навестил, почему не полетел кувырком с ошпаренной задницей? Я вижу его в городке К. в неприступной крепости матушек и чую: стряслась беда! Иначе ни за что на свете не вернулся бы Омар-Хайам в родные края. Он не появлялся в Нишапуре с того дня, как, погрузив ноги в ванночку со льдом, отбыл на поезде. И напоминал о себе лишь денежными переводами, так оплачивая свое отсутствие …ведь некоторые векселя никакими деньгами не оплатить. И куда б ни бежал, от себя не убежишь. Он нарочито порвал с прошлым, он заставил себя почти не спать — и то и другое в результате, точно льдом, сковало блестящей коркой шкалу его нравственных оценок, обратило его в бездушную, не различающую добра и зла мумию. И то, что он держится от матушек на расстоянии, — следствие их же старинного наказа: мальчик не должен ведать стыда.
У Омар-Хайама по-прежнему взгляд и голос гипнотизера. Сколько лет Искандера Хараппу вел и этот взгляд, и этот голос (в основном, на пирушки в гостиницу «Интернациональ»), сколько раз Хараппа пускал и то и другое в ход в своих целях. Ведь некоторых белых женщин привлекала как безобразная полнота Омар-Хайама, так и его глаза плюс голос. Они подпадали под его сладкоречивые гипнотические чары, млели от намеков на посвящение в тайны Востока. Он увозил их в заранее заказанный гостиничный номер, гипнотизировал, освобождал от пут условностей (правда, весьма непрочных), и они с Хараппой устраивали «пиршество плоти». Шакиль всякий раз оправдывался: «Невозможно внушить гипнотизируемой то, чего она делать не хочет», Хараппа же оправданиями себя не утруждал. Вот, кстати, еще одна черта, которую он искоренил — уже без ведома Омар-Хайама. Того потребовала История.
А попал Омар-Хайам в Нишапур потому, что умер родной брат, Бабур. Ему не исполнилось еще и двадцати трех, и Омар-Хайам его ни разу не видел. Теперь же от младшего брата осталась лишь стопка замусоленных блокнотов. Справив сорокадневный траур, Омар-Хайам заберет их с собой, в Карачи. Кляксы и каракули — больше ничто не напомнит о младшем брате. Его застрелили, причем приказал открыть огонь не кто иной, как… впрочем, сперва — бабуровы дневники.
Его тело принесли с Немыслимых гор — гнездилища порока и архаров — и, обнаружив в карманах блокноты, вернули их родным, хотя многие страницы затерялись. Несмотря на непотребное обращение с дневниками, можно было восстановить несколько любовных стихов, обращенных к популярной кинопевичке, которую Бабур Шакиль и в глаза не видывал, Плохо рифмованные строки, выражавшие пламенную любовь к недоступной красавице, восхваляли ее ангельский голос, рядом, не очень-то к месту, шел уже стих белый, отчетливо порнографического свойства. Стихи перемежались рассуждениями Бабура об аде, который он познал, уродившись младшим братом Омар-Хайама.
Тень старшего сына таилась в любом уголке Нишапура. Матушки уже давно прекратили сделки с ростовщиком и жили исключительно на деньги, которые присылал Омар. Видно, из благодарности они и поселили своего младшего отпрыска в этакий мавзолей из воспоминаний и оваций славному далекому первенцу.
Омар-Хайам был много старше и давно не хаживал по грязным улочкам К., по которым ныне слонялись пьяные рабочие с газовых месторождений и задирали от нечего делать добытчиков угля, бокси-
тов, оникса, меди и хрома. Над крышами домов еще возвышался все более и более унылый, треснувший купол «Блистательной». Бабур испытывал двоякое чувство: с одной стороны, образ отца (воплощенный в старшем брате) угнетал, с другой — ускользал бесплотной тенью. Так, в женском затворе, пораженном сухоткой воспоминаний, отметил он свое двадцатилетие: сложил посреди внутреннего двора в кучу табели успеваемости, золотые медали, газетные вырезки, старые учебники, пачки писем, крикетные биты — короче, все, что напоминало о прославленном старшем брате, и поджег. Матушки не успели его остановить. Бабур не стал глазеть, как старухи рылись на пепелище, выкапывали обгорелые фотографии, медали, обращенные огнем из золотых в свинцовые. Посредством подъемника юноша выбрался на улицу, настроение у него было далеко не юбилейное. Сам не зная куда, побрел он по улице, невесело задумавшись о весьма ограниченных своих возможностях и о неопределенности будущего. Тут-то и задрожала земля.
Поначалу ему показалось, что задрожало у него внутри, но по щеке больно чиркнула острая щепка, и сознание будущего поэта вмиг прояснилось. «С неба осколки сыплются»,—изумленно подумал он и замигал часто-часто. Ноги сами совершенно неумышленно принесли его в квартал лавочек и притонов. Там, среди маленьких ларьков творилось нечто удивительное, вряд ли такое можно вызвать внутренней дрожью: под ногами лопались дыни, остроносые шлепанцы соскакивали с полок; в проходах валялись и глиняные черепки, и поделки из драгоценных камней, и гребни, и парчовые платья. Бабур ошалело стоял среди всего этого разора, из разбитых окон еще сыпались осколки. Ему казалось, что его внутреннее неустройство и породило весь этот хаос. Как хотелось ему задержать хоть кого-нибудь, остановить эту безумную, охваченную страхом толпу карманников, продавцов, покупателей и попросить у всех прощения за причиненное зло.