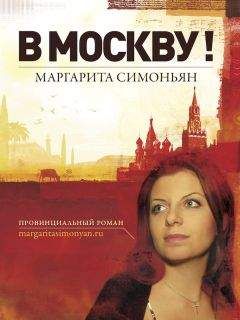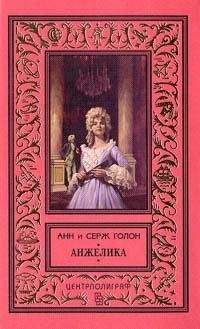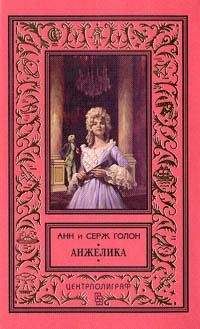Черные глаза - Симоньян Маргарита
Однажды новый учитель подошел к тебе прямо на улице.
— Слушай, красивая девочка, — начал он.
Но ты испуганно отвернулась и быстро ушла, семеня по осенним камням. Адаму понравилось, что ты не стала одна говорить с мужчиной на улице — даже с учителем. В субботу в каштановый дом уже стучали присланные Адамом сваты.
Поговорив с Минасом о дождливой погоде, о том, успеют ли на зиму собрать на горе весь сладкий каштан и много ли в этом году в подлеске кизила, старший из сватов сел к очагу и стал теребить бамбуковым прутиком догоравшие угли. Это означало, что он пришел говорить совсем о другом.
— Не трогай мой очаг, — вежливо сказал твой отец.
Это означало, что сватам пора уходить.
В темном углу ты толкала ногами тяжелую бочку, подвешенную к потолку, — сбивала кислое масло — и видела, как старший сват теребил ваш очаг. И как сваты ушли, не получив от твоего отца никакого ответа.
— Он живет с красивой русской женщиной, — сказал Минас за семейным ужином, когда твоя мама поставила на каштановый стол крапивную кашу и кукурузный хлеб.
— Зато он не колхозник, — ответила ты.
Свадьбу играли всю ночь и полдня, пока Вардкез — лучший на весь Дурнабел барабанщик — не разорвал свой последний кожаный барабан.
Ты никогда не сомневалась в своем Адаме. Даже когда он купил мотоцикл и соседки в истоптанных тапочках сказали тебе, что мотоцикл ему нужен, чтобы катать других.
— Адам, если посадишь в этот мотоцикл женщину — разобьешься, — это все, что ты ему посоветовала.
Когда той же ночью Адам, до крови исцарапанный горной ажиной, тащил из канавы свой искалеченный мотоцикл, ты уже ждала его дома с целительным чистотелом и свежей рубашкой.
Ты знала, что на самом-то деле Адаму всю жизнь нравилась только одна русская женщина — Валентина Васильевна Толкунова. Ну и немножко все остальные — русские и нерусские, — кто был на нее похож. Но любил Адам только свою Кегецик.
Однажды в вашей деревне появился вор из Румынии, большой и гордый, дядь Грант. Он подружился с Адамом и его белозубой женой. Грант рассказывал, что в Румынии у него была невеста. Она носила корсет. И как-то раз попросила Гранта зашнуровать ей ботинок, потому что в корсете ей неудобно нагнуться. Грант присел, сделал вид, что шнурует, и растворился в толпе. Он был так оскорблен, что решил больше никогда не жениться.
Еще он рассказывал, что в Румынии его воспитывала стая воров. У всех у них не было больших пальцев. И когда пришла пора ему самому стать вором, он должен был тоже отрубить себе большой палец, чтобы лучше лазить в карман. Но он не стал его отрубать и сбежал.
Твой Адам с опаской поглядывал на дядь Гранта, когда он рассказывал при тебе свои увлекательные истории.
Дядь Грант привез с собой из Румынии головокружительную игру, умещавшуюся в узком ящике из ореха, разрисованном, как татуировками, полуголыми феями. Вся деревня ходила к нему учиться, но никто по сей день не играет в нарды лучше тебя. Может быть, ты была фартовее и умнее других, а может, он просто учил тебя все вечерами подряд, как только падало солнце и ты возвращалась из своего огорода, пряча под фартук руки с черной землей под ногтями.
Тот, кто проигрывал партию, должен был идти в магазин за хлебом. Если проигрыш был всухую, хлеб надо было купить белый.
Твой Адам всегда сидел рядом, ронял пепельницу которую выстругал сам из можжевельника в своей низенькой мастерской в конце огорода, где он оглаживал на визжащем станке и заковывал обручами винные бочки для винограда, оплетавшего двор с топчанами, засиженными собаками-крысоловами, в той мастерской, где остались два пальца Адама, срезанные визжащим станком, пока вы со вспотевшим дядь Грантом резались в нарды на лакированном столике, присланном Гранту его корешами откуда-то с зоны.
Твой Адам так до конца своих дней и не понял, что вы с дядь Грантом находите в этой шумной игре. А ты с удовольствием голосила мелодичными переливами на всю любопытную улицу:
— Дядь Грант, не забудь, белый купи, белый!
Свою первую дочь ты рожала три ночи. Через месяц дочь начала сильно кашлять. Врач сказал:
— Не мучайте. Все равно умрет.
Бабки отлили воск и велели накрыть младенца тяжелым ковром и держать над котлом с кукурузой.
— Свою дочку держи над котлом, а моя дочка еще поживет, — сказала ты бабкам, завернула Тамару в подол и увезла ее на три месяца за крутой перевал, где уже начиналась Абхазия. Там вы жили прямо в лесу в балагане из старых ковров и самшитовых веток, в котелке на костре варили свежую мяту и купали дочку в нарзанном источнике.
Твоя первая дочь никогда больше в жизни не кашляла.
Как рожала вторую, ты не запомнила. Когда забеременела в третий раз, пришла в больницу, легла на жесткий топчан, объяснила:
— Куда третьего? Вдруг опять будет девочка.
Врач потрогала мягкий живот и сказала:
— Не делай. Мальчик будет, точно тебе говорю.
Моя мама родилась в конце сентября, когда собирали инжир.
— Отдадим ее в Адлер, Адама родителям, — решили на семейном совете, когда у тебя закончилось молоко. — Куда три девочки.
Твоя золовка и лучший друг, черноглазая Ева, испуганно на тебя посмотрела. Ты промолчала, завернула мою маму в подол и ушла вместе с ней в свой огород собирать фейхоа.
Спустя много лет, когда у Адама, отца трех дочек и деда трех внучек, родилась четвертая внучка, кто-то пустил по Молдовке обидную шутку:
— Бедный Адам, везет ему на дам.
— Эйгедыгей, кто в этой жизни знает, что значит везет, а что значит не везет, — сказала ты и ушла солить на зиму молодой горный лопух.
Со своим Адамом вы построили дом прямо возле аэропорта в Молдовке. Купили туда телевизор. Когда самолеты взлетали, по телевизору долго шли вверх и вниз черно-белые полосы. Потом полосы пропадали, и на их месте снова появлялся сериал про капитана Катаньо, но в самом душещипательном месте снова взлетал самолет.
В этом доме никогда не переводились дети. Сначала твои дети, потом дети твоих сестер и братьев, потом внуки и правнуки. Каждого ты гоняла крапивой по огороду и ни одного ни разу не тронула.
Летом ты брала своих внучек, грузила адамовский «жигуленок» коврами, матрасами, длинными тонкими прутьями и увозила всех на два месяца на перевал. Там возле бурных ручьев вы строили свой балаган, накрывали его коврами, пол устилали папоротником и матрасами.
— К речке не подходите. Там живет крокодил, — говорила ты внучкам.
По вечерам твои внучки пили свежезаваренную на костре дикую мяту и ложились спать в оглушительной тьме и бездонности, сквозь которую сыпались, как отцветающая в феврале белая слива, низкие южные звезды.
Люди спрашивали тебя:
— Зачем вы уезжаете летом на перевал, вы ведь живете в деревне у моря?
— Чтобы в нашей семье никто никогда не кашлял, — отвечала ты.
Однажды твоя городская внучка увидела, как ты отрубила голову курице. Курица без головы кругами носилась под навесом, где валялись не пригодившиеся теплой зимой дрова, как будто пыталась догнать свою улетучивающуюся жизнь.
Городская внучка забилась в истерике и весь день не выходила из маленькой комнаты с лаковым шкафом.
— Эйгедыгей, в этом городе одни профессора живут. Наверно, они только розы на обед кушают, — сказала ты и ушла жарить курицу с чесноком и кинзой.
— Нельзя быть такой умной, как твоя городская внучка. Замуж никто не возьмет, — говорили тебе соседки в стоптанных тапочках.
— Иди за своей внучкой смотри, — вежливо отвечала ты, помешивая варенье из фейхоа.
Когда у тебя уже появились седые волосы и ты перестала их носить высоко, Адам вдруг начал тебя безжалостно ревновать. Если ты, продав на базаре хурму, не успевала на пятичасовой автобус, Адам уже знал, что тебя соблазнил торговец свежими мидиями, или знакомый с Курортного городка, или даже водитель автобуса. До утра Адам изводил тебя красочными подозрениями, пока тебе не пора уже было вставать кормить поросят в дальнем конце огорода, там, где стоял дощатый туалет и созревала черная лавровишня.