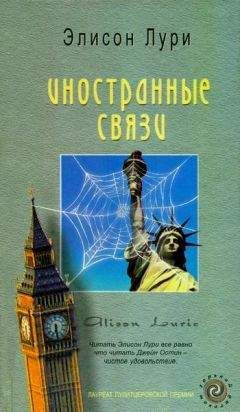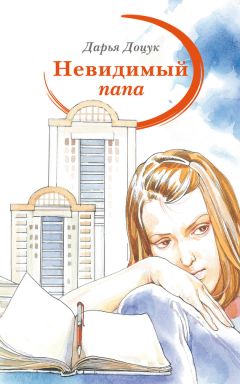Владимир Шаров - Старая девочка
И вот, раз пока снять хорошую квартиру денег у нас нет, мы поселимся у моей сестры Наташи, она с ней подружится, мы с Димой и так друзья, в общем, лучше и не придумаешь. Она это так спокойненько каждый вечер рассказывала, мне ее план тоже нравился, а потом, не знаю уж как, я всё понял. Ничего она со мной жить не хочет, просто придумала, как Диме отомстить.
Раскумекал я это, посоветовался с Ираклием Христофоровичем, он мне и говорит: беги что есть сил. Я и побежал. Буквально на следующий день женился на нынешней своей жене. Но и женатый, — продолжал Пирогов, — отлипнуть от нее не мог. Каждый вечер ходил, даже тренировки забросил. И вот раз сидим мы с Верой в комнате, где она спала, я держу руку на ее коленях, что мне разрешалось…»
В дневнике Вера писала об этом: «У меня подруга была, Шура Мартынова, она уже тогда год как замужем прожила, у нее даже дочь была, и мы все считали ее очень опытной. Однажды я не удержалась, спросила, почему, когда мы сидим вместе, Пирогов руки к моим коленям тянет. Шура в ответ глубоко вздохнула и говорит: „Тебе с ним хорошо будет, он страстный“.
Шуры этой потом быстро не стало. Дочь она назвала в честь своей бабушки Ненилой. Мне это имя совсем не нравилось, похоже, и бабку сей знак внимания не растрогал. Родители в церкви не венчались, и ребенка она иначе как ублюдком не звала. Потом у девочки начался понос, и через три дня она умерла. После похорон девочки Шура поехала домой к мужу, и там он ей сказал, что больше с ней жить не намерен. В общем, она всё потеряла, и когда мужа не было, взяла его пистолет — он специально оставил на видном месте — и застрелилась.
Когда мама мне сказала, что Шура убила себя, я вдруг вспомнила, что она говорила в тот вечер, когда я спросила про Пирогова. Настоятелем церкви Косьмы и Дамиана, что на Маросейке, тогда был священник, о котором все говорили, что он провидец. Решилась к нему сходить и Шура. И вот она рассказывает: прихожу — народу тьма-тьмущая. Ну, и я стою, жду, слушаю, что о нем люди говорят. Оказывается, он сам никого ни о чем не спрашивает, только взглянет на человека и тут же прорицает, правда, иносказательно. Я ее спрашиваю: ну, а тебе он что сказал? Шура говорит: да можно сказать, что и ничего. Я, во всяком случае, ничего не поняла. Посмотрел на меня внимательно и говорит: „Отрезанная горбушка на столе лежит“. Просто ерунда какая-то. Благословил и позвал следующего. Я тогда только пожала плечами. Действительно ерунда, а сейчас, когда вспомнила Шурины слова, вдруг поняла. Ведь отрезанной горбушкой в народе дочь называют».
«И вот Вера мне ни с того ни с сего говорит, — перебил мысли Ерошкина Пирогов, — что, всё взвесив, теперь готова стать моей женой. Я сначала обрадовался; наверное, у меня и на лице это было. Еще бы — сколько этих слов ждал! Я так обрадовался, что даже забыл, что она не знает, что я уже женат, говорю ей это, стараюсь помягче, но оттого, наверное, совсем глупо получается. И глупо, и обидно, и непонятно, зачем я тогда к ней ходить продолжаю, раз уже женат.
Сказал, ну и сидим оба, молчим, только плеск ручейка у них во дворе слышен. Наверное, из-за него Вера и говорит: пойду на кухню, напьюсь. Пошла, минуты через две возвращается, в руках полный стакан и говорит мне: хочешь? И тут опять я себя как последний дурак повел. Встал, взял из ее рук стакан и выплеснул его в окно. Она смотрит на меня и вдруг, как безумная, хохотать начинает. Хохочет и, давясь, говорит: „Что же это вы, Лев Николаевич, решили, что я отравить вас вздумала?“ Ну вот, — закончил Пирогов. — На этом мы с ней тогда и расстались».
«Что же, — сказал Ерошкин, — похоже, вы дешево отделались. Представляете, что бы было, если бы вы тогда не сообразили, что она замуж за вас идет, чтобы Диме своему отомстить?» — «Да ничего бы не было, — сказал Пирогов, — ерунда всё это из женских романов. Мы бы с ней знаете как хорошо жили! Все бы нам завидовали. Я ее и до сегодняшнего дня ждать бы согласился. Так бы и ходил и ждал, если бы она разрешила. Никогда себе не прощу, что тогда Ираклия Христофоровича послушал. Ходил бы год за годом, — повторил Пирогов, — а потом однажды она бы мою преданность оценила».
Николая (Колю) Ушакова, командира танкового батальона, Ерошкин поручил допросить своему подчиненному Давиду Дрейферу, потому что, по мнению Смирнова, да и самого Ерошкина, никакого интереса он по этому делу не представлял. Во времена, когда он знал Веру, ему было всего лет семь-восемь, встреча их была случайной и, надо сказать, радости Вере не доставила. Рассталась она с Колей без сожаления.
Вызвали Ушакова с важных маневров, Ерошкин велел с ним не миндальничать и не разводить церемонии, допросить и, если не окажется ничего интересного, в тот же день отправить обратно. Так сказать, не мешать ему крепить обороноспособность Родины. Поезд Ушакова пришел в Москву в десять утра. На Лубянке он должен был быть в половине двенадцатого; в итоге, не заезжая в гостиницу, явился к Дрейферу прямо с вещами.
Из дневника Веры Дрейфер знал всю историю их годичного знакомства. Вера писала, что, когда она на корабле возвращалась домой, так и не найдя никаких следов Ирины, ничего, кроме записи в журнале больницы Рыбной Слободы, что 19 августа 1918 года Ирина Сергеевна Радостина скончалась здесь от холеры; и вот, едва они отчалили от пристани в Рыбной Слободе, как на нижней палубе обнаружился заяц. Маленький худенький мальчик, совсем оголодавший, оборванный и босой. «Его отвели к капитану, и тот при нас — там собрался чуть ли не весь пароход — долго допрашивал беспризорника, однако единственное, что удалось узнать, что имя его Коля Ушаков, возраста своего он не знает. На вид ему было лет семь. На вопрос капитана, где его родители, он отвечал, что сирота, отец служил матросом на пароходе, но выпимши попал в колесо, и его на куски размололо, а мать умерла еще до того.
Лично мне, — писала в дневнике Вера, — его рассказ о смерти отца не понравился, он обо всем говорил неуверенно, мямлил, а здесь отвечал, будто урок выучил — твердо, звонко. Но капитан оказался отзывчивее. Тут же, ни минуты не раздумывая, он объявил, что берет мальчика в свою семью, усыновит его и воспитает вместе с собственными детьми. Когда он это говорил, — писала Вера, — у меня в душе шевельнулось сожаление. Я ведь и сама думала, что вот не стало Ирины и эту пустоту надо хоть как-то заполнить.
Но я рано печалилась. То ли жена капитана не разделила гордый позыв мужа, или просто дети не поладили между собой, но, едва я заикнулась, что сама хотела взять Колю, капитан не заставил себя упрашивать. Наоборот, сразу сказал, что так оно, наверное, и впрямь лучше. Услышав про Москву, Коля тоже повеселел, тут же при всех стал величать меня маменькой. Признаться, мне это не очень понравилось.