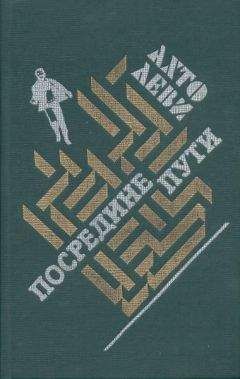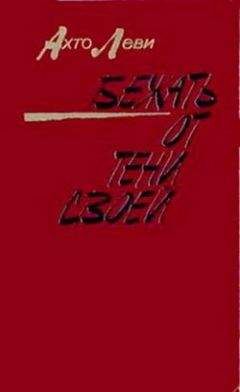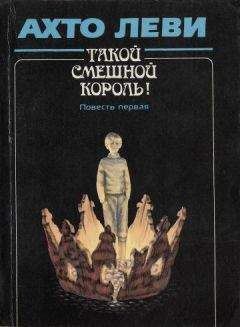Ахто Леви - Записки Серого Волка
Да, действительно, ощущение мерзкое, хуже и придумать невозможно; а когда по тебе стреляют – тоже не самое приятное ощущение, а когда при этом в тебя попадают… Но это еще тоже ничего, но вот когда ты лежишь, не в силах подняться, потому что нога твоя, та самая, в которую попали, онемела от страшной обжигающей боли, а реку уже переплывают люди, те, кто в тебя стрелял, и с ними еще собака… и ты лежишь и думаешь о том, как они будут себя вести, особенно как будет вести себя собака, когда они все переплывут реку, – неприятное ожидание, надо сказать. Собака, крупный серый красавец, добежала до меня первая и, тихо рыча, встала надо мной. Я лежал смирно, без малейшего движения, и смотрел ей в пасть, которую она, словно для того, чтобы я смог пересчитать все ее зубы, держала открытой. Она не делала ни малейшей попытки укусить меня, она будто понимала, что мне и без того больно, и только угрожающе рычала: не шевелись, мол, со мной шутки плохи. Прибежали «они», мокрые, усталые, злые, как всегда в таких случаях.
– Ранен? – переводя дух, спросил один, высокий, худой, или, как это называется, сухопарый, с веснушками на лице. Его серые глаза не выражали ничего, кроме профессионального любопытства и усталости. – Куда ранен? – и, узнав куда: – Так тебе и надо. Черт тебя побери… Ну, что глазеешь? – рявкнул он невысокому курносому парню, который действительно рассматривал меня с таким вниманием, словно перед ним лежал не человек (пусть даже жалкий, обросший, скривленный от боли), а по меньшей мере гиппопотам. – Разведи костер, обсушиться надо.
Сидя у костра, веснушчатый все читал мне проповедь насчет бессмысленности моей жизни и побега тоже. Они мне рассказали, что одного из тех, кто был со мной, убили – Джека. Джек – вор, он до этого бежал три раза, в последнем побеге изнасиловал малолетнюю девочку, и ему дали на всю катушку – 25 лет. Джек ненавидел все на свете, особенно труд. Он всегда говорил: «Труд подневольный, братишки, не любит даже лошадь, а почему я в этом смысле должен быть глупее этой скотины?» Джек требовал свободы, а получил пулю.
– Ну вот, мы тебе попали в ногу (ногу они, кстати, перевязали), а если бы в голову – все, шабаш,– веснушчатый все продолжал агитировать.– Твое счастье, что ты такой длинный и голова все же значительно выше ног… И вообще, завязать бы тебе, парень, пойти в бригаду, к работягам. Ты молод…
И пошла мораль. Он все поучал, поучал, а я виновато, словно обдумывая его слова, смотрел в костер и молчал. А что тут обдумывать, каждый знает, на что идет. Знал и я, что, если побегу, будут по мне стрелять. Уговорами ни одного беглеца не вернешь.
И то, что свобода Джека чье-то несчастье, тоже верно. Но ведь я-то лично не хочу никого убивать, насиловать, я просто не хочу быть здесь. Работать? Джек, конечно, негодяй, но относительно подневольного труда он вообще-то прав: тяжело же в лесу. А в зоне… Да ведь в зоне мне не бывать, раз я не хочу работать – в карцерах мне обитать, и только. А там сволочь разная. Еще недавно сидел 10 суток с одним… даже не знаю, как его называть. Грязный, опустившийся, противный, вонючий, звероподобный. Тебе от него деваться некуда, ты вынужден спать рядом с ним, а он не просто неприятен, он гадок, омерзителен. Но ты не можешь ему это сказать, не можешь избежать его общества, даже спать ты должен рядом с ним, слушать его сонное звериное мычание, смотреть, как изо рта его текут слюни; все должен терпеть, потому лишь, что работать ты не хочешь, так же, как он. И если ты ему что-нибудь скажешь, он ответит: «Чево тебе надо?! Ты такая же сволочь, как и я. Не нравится – отвернись». Конечно, ты можешь набить ему морду – это уж он ложно не истолкует. Но если он сильнее тебя? Значит, будешь ты еще и побит. А человеческое достоинство?
– И куда бежать-то? – говорил веснушчатый. – Дальше Советского Союза не убежишь, а здесь все равно поймают. Лучше бы набраться терпения и силенок да по-честному отработать положенное, а тогда – будь здоров, иди на все четыре стороны, и мне за тобой бежать уже не придется. А так вот… лежишь теперь. Больно? – Я сказал, что больно. Тогда веснушчатый приказал курносому отправиться в деревню.
– Ну, высох малость, иди приведи людей. Надо же его доставить в село. Куда ж он сам… И таскать тебя еще теперь… – последнее он адресовал уже мне. Я промолчал.
– Еще побежишь? – спросил курносый, вставая от костра. Я опять промолчал. А что отвечать? Сказать «да» – еще неизвестно, как они на такой ответ отреагируют. А зачем портить отношения? Сказать «нет» – вряд ли они поверят. Сам я уж, во всяком случае, в это не верю.
– Беги, – разрешил курносый великодушно, – твое дело бежать, наше ловить. Поймаем.
Он ушел в деревню, мы остались с веснушчатым вдвоем.
– Почему бежал? – уже в который раз спрашивал он. – Что тебя заставило?
– Да так, плохо все, – отмахнулся я от ответа.
Да разве объяснишь? И сам не поймешь толком. Что происходит?.. Вспоминается иногда детство, когда в первый класс ходил, когда кличку себе взял – Серый Волк, просто так взял я ее, для игры в индейцев, а теперь всерьез волком становлюсь. Вот меня уже и собаками травят. Странно даже думать, что где-то невообразимо далеко есть свобода и живут там мирные люди, ложатся спать, уверенные в собственной безопасности, ножи применяют лишь для того, чтобы резать ими хлеб.
А здесь недавно проснулся от жуткого крика, соскочил с нар, перепуганный, еще сонный, а кругом смеющиеся над моим страхом рожи. Оказывается, просто боролись двое, дурачились. А я до утра глаз не сомкнул, дрожал противной дрожью. Когда будет этому конец? К дьяволу всю эту жизнь и воров! Но нельзя мне сейчас от них отделаться иначе, как бежать из этого проклятого места!
Последняя прогулка (160 километров) обошлась мне в два года добавочного срока с переводом на тюремный режим да в пятнадцать суток карцера.
Большинство из зеков считают, что на тюремный режим заключенных определяют в общем-то отдыхать и режимная тюрьма вроде «санатория». Заслужить путевку в этот «санаторий», однако, нелегко. Мне, чтобы получить путевку сюда, пришлось, как известно, совершить два побега, а это связано с некоторым риском: можно получить путевку не только в «санаторий», но и на тот свет.
Нас везли в город Кировоград. Погрузили в вагон, снабдили на дорогу мешком хлеба. По мере приближения к Кировограду мешок все пустел и пустел, пока, наконец, ко дню прибытия в нем остались лишь три буханки хлеба. Ехали мы отдельно от прочих заключенных, так что пополнить запасы было невозможно, а на отсутствие аппетита никто из нас никогда не жаловался. По прибытии нас стали выгружать из «Столыпина» и погружать в «черный ворон». Случилось так, что нас разместили в машине, где находилось человек двадцать крестьян с большими мешками. Я влез в машину последним и стоял прижатый к самой двери. В пути от станции до тюрьмы я заметил, что в куче ног и рук, человеческих тел, пыхтевших, кряхтевших, потерявших равновесие, в трясущейся на дорожных ухабах машине что-то происходит, а затем один из нашей пятерки просунул мне какой-то сверток: