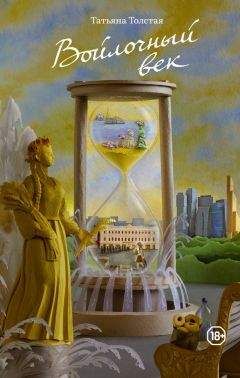Татьяна Толстая - Изюм
А секрет в том, что у молодого-прогрессивного большой ОБОРОТ. Пока старик продаст один рулон драдедама, молодой продаст три: в магазине так красиво, в нем столько народу — у прилавков не протиснуться, — что драдедам улетает со свистом, и он заказывает на лионских фабриках все новые и новые партии, а кроме того, как хороший оптовый покупатель, получает их со скидкой.
«Пятьсот восемьдесят семь тысяч двести десять франков тридцать сантимов! — провозгласил кассир, и его вялое, изможденное лицо словно осветилось солнечным лучом, исходившим от всего этого золота».
Золя так ясно и увлекательно объяснил азы рыночной экономики, что с тех пор мой мозг отказался воспринимать миф об «экономике социализма», и по соответствующему предмету у меня всегда была двойка. Не могла я учить наизусть бессмысленное, когда вот совсем рядом, в Париже второй половины XIX века, стоит и блистает огнями газовых рожков такая четкая, логичная, органическая конструкция.
Конечно, не без «ужасов капитализма». Суконный старик разоряется, все владельцы мелких окрестных лавок разоряются, жадные парижские модницы разоряют своих трудолюбивых мужей, выбрасывая целые состояния на ленты и тряпки, аристократическое семейство, не устояв, ворует мотки кружев, запихивая их в атласные свои рукава, а потом с позором попадается на этом деле, — конечно, ужасы! Разврат и алчность! Просто отлично! Оторвешься от книги, глянешь в окно, а там социализм, свободный труд свободно собравшихся, мокнет тара под дождем, и трое мечтателей пьют рвотное.
Если бы Золя был русским писателем, то в литературном пантеоне наша критика разместила бы его где-нибудь рядом с Боборыкиным, так как сердце его, очевидно, не растревожено горестями народными, и воспел он торговлю, кассу, барыши, а не бессмертную душу, тоскующую об имуществе лучшем и непреходящем. А Гонкуровская академия тем временем включила роман «Дамское счастье» в список одиннадцати лучших французских романов, наравне, страшно сказать, с Прустом, Флобером и Шодерло де Лакло. Пойми этих французов.
Западное сознание, отразившееся в изящных искусствах, вообще тяготеет к подробностям, деталям, мелочам мира Божьего. Буржуазное, то есть городское, рукотворное, тщательно выделанное, продуманное, удобное, для человека сделанное, подогнанное по фигуре, нужное, земное, здешнее и т. д. — вот ключевые слова. Мы живем пока здесь, и имущество наше — здесь. Можно сунуть ногу в валенок — тепло, удобно, пальцами шевелить сподручно. И-эх, где наша не пропадала! А можно осмотреть и обдумать форму ступни, тоже Господне творение, между прочим, — а в ней и мышцы, и косточки; и изготовить удобную колодку, и вывести носок, и рассчитать каблук, и сшить такой сапог, чтобы в любую погоду, по любой дороге дойти куда тебе нужно. Голландский художник любовно прописывает блик на ручке швабры. Хорошая вещь швабра, удобная и полезная. Жюль Берн дает подробные инструкции, как выжить на необитаемом острове, как из палочек, ниточек и прочих обломков кораблекрушения построить все вплоть до электростанции. О Робинзоне Крузо и говорить нечего: это гимн буржуазности, ода человеку разумному и трудолюбивому. Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь, изобрел за машиной машину. Часы, ружье, английскую булавку, банковскую систему, страховые общества. Изобрел — и возрадовался делам рук своих.
Кстати, об этих лионских фабриках, где молодой предприниматель заказывал свои конкурентоспособные рулоны. Мы зачем-то в школе проходили «восстание лионских ткачей», должны были сочувствовать, что они там забастовали и отказались ткать. А того мы не проходили, что Лион — стариннейший европейский центр производства натурального шелка и что там с XV века проходят ежегодные европейские торгово-финансовые ярмарки. Вот только сейчас узнала из энциклопедического словаря. То есть нас в школе учили дурному: как не работать. А про музей тканей, про ярмарки — ни слова. Значит, непрерывный, с пятнадцатого века, труд и созидание этих тысяч людей — тьфу. А как бастовать — пожалуйте в учебники.
Кстати же, поинтересовалась, почему они бастовали. Потому что Жозеф-Мари Жаккар, он же Жаккард, изобрел станок для производства жаккардовых тканей. «Рост производства тканей, а следовательно, их дешевизна и доступность вызвали социальный взрыв», — пишет источник. То есть они там не стонали у станков от непосильной работы, а возмутились падением прибылей. В трудовом ткаче ворочался разъяренный буржуа, а вовсе не постная Ниловна.
А наш русский мужик, коль работать невмочь, так затянет родную «Дубину». Про то же и Вас. Вас. Розанов: «Вечно мечтает, и всегда одна мысль: — как бы уклониться от работы».
В общем, всенародное зубоскальство на тему «хотим работать, как в Монголии, а жить, как в Париже» несколько приелось. Шутка, повторенная дважды, становится пошлостью. Россия, скрипя всеми колесами и рассохшимися приводными ремнями, разворачивается в сторону нормального рынка. Хочешь жить как в Париже — поработай как в Лионе, — это понимает все большая часть населения. Но словесность наша, как и встарь, пренебрегает этой важнейшей социальной темой, дескать, не царское это дело. Пусть бальзаки роются в авизовках, нам это западло. Ну западло так западло, но добро бы писали о трансцендентном и сверхчувственном. А то все больше кровавые ментовские разборки, женские сиськи и «как я нанюхался».
Тут еще традиционное презрение к «беллетристике» как низшей, по сравнению с горными вершинами, литературной продукции. Наша критика, современная русская литературная критика, заменила собой выездные комиссии, ранее бушевавшие в райкомах-обкомах. Брюзгливое недовольство писательским трудом, углы рта вниз, ноздри раздуты. Где шедевр? Шедевр подавай! Где Вечное? Вечное где, я спрашиваю?! И суп им жидок, и жемчуг мелок.
Между тем беллетристика — прекрасная, нужная, востребованная часть словесности, выполняющая социальный заказ, обслуживающая не серафимов, а тварей попроще, с перистальтикой и обменом веществ, то есть нас с вами, — остро нужна обществу для его же общественного здоровья. Не все же фланировать по бутикам, — хочется пойти в лавочку, купить булочку. Не всегда, знаете, приятно, придя домой и уже переобувшись в тапочки, столкнуться в коридоре с Ангелом: «над головою его быларадуга, и лице его как солнце, и ноги его как столпы огненные; в рукеу него была книжка раскрытая» (Откр., 10: 1– 2). Невротиком станешь.
А невротик, как известно, более всего сопротивляется тогда, когда врач вплотную подобрался к его неврозу и пробует поломать замки, развязать узлы, вскрыть истинные причины заболевания. Тогда невротик кричит особенно истошно, отпихивает врачевателя, зажимает свою болячку обеими руками. У русского общества застарелый невроз на имущественной, финансовой почве: мы сильно битые.