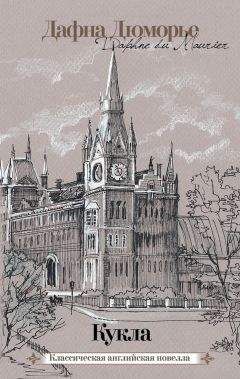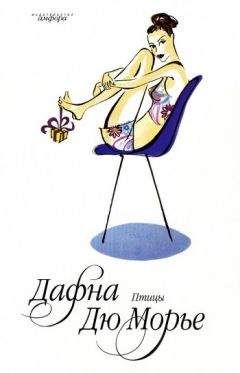Дафна дю Морье - Козел отпущения
— Все женщины любят, чтобы их баловали, — сказал я. — Ты же видел, что я подарил Франсуазе. Естественно, я и Рене хотел привезти какой-нибудь красивый пустячок. Не дарить же ей жития святых, как Мари-Ноэль!
Поль повернул машину налево, и, покинув асфальтовое покрытие, мы очутились на песчаной проселочной дороге. Лес стал редеть, впереди была прогалина.
— Подарок твой вульгарен, а дарить его за обедом было бестактно! — сказал Поль. — Ты бы посмотрел на Франсуазу, не только на Рене. Во всяком случае, если снова вздумаешь дарить что-нибудь моей жене, посоветуйся сперва со мной.
Дорога сузилась, и я увидел, что она кончается тупиком. Прямо перед нами тянулся длинный ряд домиков для рабочих, направо, посреди огромного двора, возвышалось похожее на сарай строение с покатой крышей и высокими железными трубами, его окружали другие строения, поменьше; двор был обнесен оградой, отделявшей фабрику от домиков и дороги. Повсюду сновали рабочие с тачками, бежала по рельсам вагонетка с огромной грудой стеклянного лома. Из труб вместе с дымом вырывался звук, похожий на тяжелое дыхание больного, — это дышала жаром плавильная печь. Поль провел машину в ворота, остановился у сторожки сразу за ними, вышел и, не сказав больше ни слова, зашагал через двор ко второму большому зданию позади строения с высокими трубами.
Я пошел следом за ним и, пробираясь между рельсами для вагонеток, догадался по хрусту под ногами, что земля покрыта крошечными частичками стекла, мягкими, как песок на взморье. Стеклянный песок был повсюду, в грязи под ногами, в самой почве, и горы отходов тоже были из стекла, голубого, зеленого и желтого. Рабочие с ручными тележками останавливались, чтобы меня пропустить, и я заметил, что Полю они кивали, мне же улыбались, правда без особой почтительности, но с теплотой и дружелюбием, как своему; чувствовалось, что они искренно рады меня видеть. Это польстило моему тщеславию, я постыдно радовался тому, что их симпатия проявлялась по отношению ко мне, а не к Полю.
Поль подошел к длинному двухэтажному дому восемнадцатого века с крышей из покрытой лишайником красной черепицы и, открыв дверь, переступил порог квадратной обшарпанной комнаты с панелями на стенах и каменным полом; я за ним. Посреди комнаты стоял стол, заваленный книгами, скоросшивателями и бумагами, в углу — большая конторка. Когда мы вошли, из-за стола поднялся лысый человек в очках, со впалыми щеками, одетый в темный костюм.
— Bonjour, monsieur le comte,[32] — сказал он мне. — Значит, вам стало лучше?
Я понял, что Поль рассказал ему какую-то сказку о том, что я болен, или у меня похмелье, или и то и другое, и заметил, что улыбка у этого человека была боязливая, робкая, а не приветливая и сердечная, как у рабочих, и глаза за очками смотрят тревожно.
— А со мной ничего не было, — сказал я. — Я просто спал как убитый.
Поль засмеялся — невеселым презрительным смехом человека, которому вовсе не смешно.
— Да, наверно, приятно поваляться утром в постели, — сказал он, — мне это недоступно уже много лет, да и Жаку тоже, если на то пошло.
Тот сделал примирительный жест, глядя то на меня, то на Поля, не желая задеть ни одного из нас, затем сказал:
— Может быть, вы хотите обсудить что-нибудь наедине? Если так, я вас оставлю.
— Нет, — сказал Поль, — будущее фабрики касается вас не меньше, чем нашей семьи. Я, как и вы, хочу услышать, чего Жан добился в Париже.
Они смотрели на меня, я — на них. Затем я подошел к стулу у конторки, сел и вынул сигарету из лежащей там пачки.
— Что именно вы хотели бы знать? — спросил я, наклонившись, чтобы прикурить; это помогло мне скрыть от них лицо — я боялся, как бы оно не выдало мои сомнения в том, какого ответа от меня ждут.
— О, Mon Dieu…[33] — сказал Поль в отчаянии, точно мой осторожный, уклончивый ответ был последней каплей, переполнившей чашу терпения. — Нас всех интересует только один вопрос: закрываем мы фабрику или нет.
Кто-то — кажется, мать? — говорил что-то насчет контракта. Поездка в Париж была связана с этим контрактом. С каким-то Корвале. Жан де Ге должен был его заключить. Этого они все ждали. Что ж, прекрасно, они его получат.
— Если ты хочешь спросить, удалось ли мне возобновить контракт с Корвале, отвечаю: да, — сказал я.
Они глядели на меня во все глаза. Жак крикнул «Браво!», но Поль прервал его:
— На каких условиях, с какими поправками? — спросил он.
— На наших. Без всяких оговорок.
— Ты хочешь сказать, что они будут брать наш товар на прежних условиях, несмотря на более низкие цены, которые они платят другим фирмам?
— Я их уломал.
— Сколько раз вы встречались?
— Несколько.
— Но как ты можешь это объяснить? Зачем тогда все эти письма? Что они хотели — взять нас на пушку? Заставить понизить цену — или что?
— Не могу сказать.
— Значит, ты уехал из Парижа вполне довольный переговорами и мы можем продолжать работать по крайней мере еще полгода?
— Вроде бы так.
— Не могу этого понять. Тебе удалось добиться того, что я полагал невозможным. Прими мои поздравления.
Он взял с конторки сигареты, протянул Жаку, закурил сам. Они принялись что-то обсуждать, не обращая на меня внимания, а я повернулся на вращающемся кресле к окну, спрашивая себя, о чем все-таки у нас шла речь. Возможно, через минуту они опять начнут задавать мне вопросы, не имеющие для меня никакого смысла, и моя полная безграмотность в стекольном деле тут же меня изобличит, но пока… пока — что?
Я посмотрел в окно и увидел заросший фруктовый сад, золотой от солнца, яблони, густо усыпанные яблоками, под грузом которых ветви клонились до самой земли. На лугу за садом паслась старая-престарая лошадь с длинной белой гривой. В огороде мотыжила землю какая-то женщина в черном переднике и серой шали, в сабо на ногах; в разрыхленной ею земле клевали что-то куры. Глядя на эту мирную, идиллическую картину, обрамленную перекладинами оконного переплета, я представил, что передо мной гравюра или офорт, и пожелал и дальше быть сторонним наблюдателем, а не участником событий, путником, сидящим в поезде у окна и смотрящим, как проносится мимо белый свет. Однако раньше я именно на то и сетовал, что не участвую в общей жизни, не знаю здешних обычаев, не связан с людьми.
— У тебя контракт с собой? — спросил Поль.
— Нет, — ответил я. — Они его вышлют.
Женщина с мотыгой подняла голову и посмотрела на окно. Она была крупная, пожилая, с широкими бедрами и загорелым морщинистым крестьянским лицом; взгляд ее был подозрительный, настороженный, но, заметив меня, она улыбнулась и, бросив мотыгу, тяжело зашагала к дому.