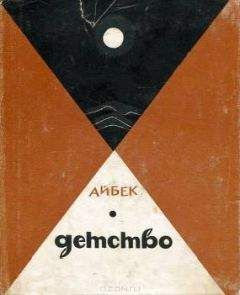Регина Дериева - Придурков всюду хватает
Вот она стоит, эта самая, обращенная в повод, жизнь в виде соляного столба, а Содом и Гоморра, расположившиеся позади нее с большим комфортом, ведут свой сладко-кислый разговор.
— У тебя все в порядке? — спрашивает Содом.
— Все о'кей! — отвечает Гоморра.
— Я люблю тебя, Гоморра, — восклицает С.
— И я тебя, Содом! — ответствует Г.
И еще они говорят хором:
— Не делай ничего, о чем бы ты мог пожалеть
Или это другие говорят? А может, другие говорят следующее:
— Считай, что ты уже покойник!
Меня же никто из них, увлеченных собственными словами, слушать не хочет. И приходится мне обращаться на тот свет. А куда еще, извольте заметить, обращаться бедному человеку, если все порядочные люди давно уже там? Потому и я, помыкавшись по свету и всюду натыкаясь на Содомы и Гоморры, потерял способность говорить на нормальном языке и перешел, по совету одного великого итальянца, на свист. Зато я понятен ветру в поле, зато я понятен небожителям, для которых жизнь перестала быть источником страха и страдания.
WINTER BONFIRE, OP. 122
Когда мой «Прокофьев» был закончен, я понял, что недостает завершающего аккорда, поскольку без него окончание не кажется столь убедительным, как с этим самым аккордом. Так я сам себя поставил в щекотливое положение, из которого долго не мог выбраться, беспомощно взвизгивая и расчесывая наиболее уязвимые места повествования.
Уже «Прокофьев» приобрел цвет слез, а я все не решался его потерять, все ждал какого-нибудь вмешательства извне. Тогда, наконец, извне появился один знакомый по сновидениям, любимый человек и сказал, виновато улыбаясь:
— Мы со Скобкиным не хотим больше думать. И на этом прерываем свою повесть.
И мы прервали.
27 февраля 1999
Вифлеем
Малик Джамал СИНОКРОТ
В МИРЕ СТРАШНЫХ МЫСЛЕЙ
Но как полюбить братьев, как полюбить людей?
Я бежал взглянуть на цвет моей безвыходности, на несправедливо частный ее оттенок…
Из русских писателей XIX-XX вековРукопись этого произведения была найдена у старьевщика-палестинца у Дамасских ворот Старого города, что в Восточном Иерусалиме, исправлена, переведена на почти современный русский язык и прокомментирована Василием Скобкиным в 1998 году.
МЫСЛЬ I
Кто-то чиркнул спичкой в сумеречной пустоте моего сознания, изгнав оттуда Будду с Шестым Патриархом[8], и осветил его пыльную захолустность[9].
МЫСЛЬ II
Голос местного пророка, не побитого камнями[10], сообщил нечто противное моему сознанию. Сознание затуманилось, и я принялся обтирать его лицевой стороной собственной жизни, которая тут же потускнела и потеряла свой парадный вид. Спасая честь, так сказать, парадного мундира, я вывернулся наизнанку. Теперь нервы у меня как аксельбанты, и каждый придурок норовит их потрогать. Зачем это делается, мне не понять, но моего понимания и не требуется. От меня требуется лишь терпение, железная дисциплина, отзывчивость и уважение[11] ко всем придуркам на свете.
— Взгляните на дом свой, хозяева жизни! — говорю я придуркам. — И грязно у вас, и темно, и мерзко, как у какого-нибудь бедуина. И ругаете вы обидными словами лиц проеврейской национальности. И маршируете Фронтом освобождения Пустыни за пророками, ни разу не побитыми камнями. Маршируйте, конечно, если вам приспичило, но не говорите при этом «мы» и не запрещайте высокий штиль. Высокий штиль, который русский писатель Ломоносов[12] придумал, на звезды, а не на ваши чумазые рожи, глядя.
И я, как Ломоносов, хочу взирать на небо, высматривая между спутниками-шпионами самые яркие и натуральные звезды, чтобы не думать больше о мелком и низком времени.
МЫСЛЬ III
Со стороны матери одно, со стороны отца другое, а что со стороны себя? Со стороны себя, если не иметь в виду мать с отцом, неопределенность[13]. Взять, к примеру, время. Разве я живу настоящим, как другие? Или прошедшим? Иногда мне кажется, что я вообще не живу, что меня просто оттеснили в глубь пустыни, где многим существование представляется невозможным. Или это пустыня сознания?
В четырнадцатой песне «Ада» Данте посетило сходное чувство:
Вся даль была сплошной песок сыпучий,
Как тот, который попирал Катон,
Из края в край пройдя равниной жгучей
О Божья месть, как тяжко устрашен
Быть должен тот, кто прочитает ныне,
На что мой взгляд был въяве устремлен!
Я видел толпы голых душ в пустыне:
Все плакали, в терзанье вековом,
Но разной обреченные судьбине.
Кто был повержен навзничь, вверх лицом,
Кто, съежившись, сидел на почве пыльной,
А кто сновал без устали кругом.
Там, в невозможной пустыне, стоит песчаный стол, за которым я сижу и пишу пальмовой веткой. Справа от моего стола занозой в глазу торчит кривая мечеть с кривым полумесяцем, откуда несутся хриплые приказы. Чтобы зайти в мечеть, надо вымыть ноги. Но вода — мираж и ноги я мою песком, хотя в мечеть все равно не захожу. У меня другая дорога — та, что ведет в Рим. По этой дороге и бреду я, взвалив на плечи всю сыпучую неопределенность своего существования[14]. И кажется мне, что рядом со мною идет ангел-хранитель, а впереди развевается плащ святого апостола Павла.
Плащ, за край которого можно схватиться, чтобы не упасть, а не алгебраическое преобразование, в результате которого ничего кроме не получится.
МЫСЛЬ IV
Я провел линию, и она стала горизонтом[15]. А может, это граница моего терпения? [16]
МЫСЛЬ V
И чем дальше я отходил от своего отечества, тем сильнее оно, безысходное, занимало мое воображение, пока не воспалило его совсем. А зрение! Никакого труда не составляло мне теперь разглядеть грубого раба, наглого ростовщика, гордого похитителя верблюдов и всех остальных мясников. И с таким восторгом и приязнью я всматривался почти что в каждого своими прекрасными глазами, что один глаз у меня вытек совсем, а другой готов был вот-вот вытечь.
В начале пути я еще вдыхал, раздувая свои арабские ноздри, дым мангалов и заводов по изготовлению мангалов, крематориев и костров инквизиции, и мне, не скрою, был сладок и приятен он — дым моей родины. А уже дальше пошли чужие дымы, дымы чужих шашлычных и чужих костров инквизиции, и они были мне отвратительны.
И чужие барышники с чужими мухтарами[17] не вызывали у меня сердцебиения и тяжелого дыхания. И взирал я на них равнодушно. Что мне до ихних принцесс, думал я, когда у меня своя хабибти[18] имеется? Да и не отмечал я никакой разницы между их раввинами[19] и нашими муфтиями[20].
А теперь, когда случилось сделать мне остановку все в той же пустыне, я случайно узнал в газетном киоске, что наступил конец света[21]. И подавился я сигаретным дымом, и слезы устремились из моих тусклых глаз, чтобы затопить все километры, отделяющие меня от родины.
МЫСЛЬ VI
Почему так волнуются листья на этих деревьях? Потому что ветер[22]. А почему я волнуюсь? Потому что привык[23]. Никто уже ни от чего не волнуется, так что это только моя прерогатива. Во-первых, я волнуюсь, оттого что листва может перестать волноваться, во-вторых, я волнуюсь, оттого что ветер может перестать дуть, а в-третьих, я волнуюсь, оттого что жизнь может прекратиться. Прекратится внезапно жизнь, и тогда что? [24] Тогда и ветер напрасен.
МЫСЛЬ VII
Мимо меня провели изменника родины[25].
«Друг, ставший врагом, — сказал я ему, — зачем ты сделал это? Почему ты поступил так, как не хотят поступать другие? Зачем ты вылез из подполья, вышел из строя, взорвал любимый бассейн халифа[26] , унизил главного визиря[27] , вынужденного приговорить тебя к смертной казни? А друзья! О них ты подумал? Каково им умолять палача поменяться ролями, чтобы самим намылить веревку и выбить ящик из-под твоих ног?.. Ты идешь, уже не оставляя за собой тени. Ты идешь мимо меня, а я иду мимо себя. Я иду на казнь».
Мимо тебя провели изменника родины.
МЫСЛЬ VIII
За семью морями живет моя голубка во дворце. Мне трудно представить, сколько во дворце башен, фонтанов, темниц и колодцев, но я вижу каждый золотой волос на голове моей возлюбленной. Ее золотой волос вьется через семь морей. Солью все моря в один медный таз, стану Синдбадом-Мореходом и поплыву по красным, по желтым, по белым, по черным и прочим водам, изъясняясь со встречными мореплавателями двустишиями и песнями. Или напишу долгую, как путь из Дамаска в Сибирь, где живут Йаджудж и Маджудж[28], поэму, чтобы ее отверг новый Махмуд Газневи… [29]