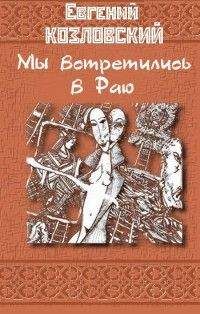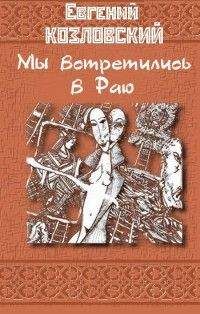Евгений Козловский - Мы встретились в Раю…
Подобно тому, как жрецы Идеологии, отличающиеся друг от друга чем-то крайне несущественным, равнодушно отправив ежедневную — кроме выходных — службу, заполняли тоннели и переходы метрополитена, словно репетируя вечные загробные блуждания по кругам ада, ибо Рай никому из них не уготован, — тени их постепенно набивались в тоннели и переходы Арсениева романа, и, не будь, как и подобает теням, бесплотны, им давно уже не хватало бы места.
Метрополитен с темными перегонами и разносветными станциями; с редкими неестественными выходами поездов на поверхность, которая обретала тогда бестелесность и призрачность, чем утверждала реальность одного подземелья; с запутанностью линий и толчеей каменных коридоров, из которых некуда деться, возникни с обоих концов внезапная опасность; метрополитен, похожий в плане на паука, с незапамятных времен сидел на сером эллипсоиде Арсениева мозга, где случайно залетевшим под землю воробьем порою билась испуганная мысль, обхватывал мозг тонкими липкими лапками с узелками-суставами станций; а теперь пробирался и в роман, подчиняя его своим колориту, структуре, законам.
В часы пик потоки людей (или теней — Арсений уже плохо различал их) растекались по рукавам и протокам подземной дельты, с поразительной покорностью подчиняясь законам гидродинамики: повышая давление перед узкими горловинами, завихряясь турбулентностями у стенок, когда скорость превышала определенный предел, и в черных пятнышках, поток составляющих, так же нелепо казалось предположить волю и самоощущение, как в молекулах, скажем, воды.
Даже самое обычное знакомство под белеными сводами подземного царства разрешалось на первый взгляд холодными, стилизаторскими, — по сути же — вполне адекватными охваченному разноцветными паучьими лапками сознанию Арсения стихами:
…и я спустился ниже. Этот ад
был освещен и не лишен комфорта.
В нем были даже выходы назад.
Все тени на ногах стояли твердо.
В их лицах вовсе не было тоски,
отчаянья иль мук иного сорта.
Но я взглянул, привставши на носки,
внимательней: средь мраморного глянца
одни глаза кричали: ПОМОГИ!
с лица больного, без следа румянца.
Я растолкал толпу, и мы пошли
уже вдвоем. Ни тени Мантуанца,
ни бога — не маячило вдали.
Зато и указатели, и стрелы
куда-то нас вели, вели, вели…
Но в глубь Аида ль? За его ль пределы?
У нас был разный возраст, разный пол,
но это здесь значенья не имело.
Вдруг загремел костьми и подошел
семивагонный поезд переправы.
Еще при входе отданный обол
(пятак, если хотите!) дал нам право
на переезд. Пульсирующий свет,
биению колесному в октаву,
одною был — казалось — из примет
существованья времени, — и это
вселяло в нас надежду… Солнце? Нет…
То — Флегетона воды. Вот и Лета.
Кончается тоннель. Стоит вагон.
Открылись двери. Кассы. Турникеты.
Наружный мир — реальнее чем сон.
Толпа теней входила, выходила.
Открылся пол наш. Ад был превзойден.
И мы тогда увидели Светила.
Фамилию прототип Арсениева главного носил, разумеется, не Ослов, — Ослова бы и не назначили! — но переименование случилось само собою, автоматически: еще со школьной, как говорится, скамьи, класса, кажется, с шестого, когда Арсений услышал на уроке оговорку товарища, за которую, случайную ли, намеренную ли — скорее все же намеренную, — товарища выставили в коридор с истерическим криком: без родителей не приходи! вдогонку, а хохочущий класс одноглазая, с врожденным отсутствием чувства юмора учительница литературы добрые полчаса безуспешно пыталась унять: патетический ор, покрасневшее лицо, брызжущая — в весеннем солнечном контражуре — слюна, топающие ноги, — учительница относилась к своему предмету и своей на ниве просвещения деятельности с явно чрезмерным пиететом и суровой серьезностью, — еще с тех давних пор всякий раз, как Арсений слышал название царя птиц в аллегорическом смысле — сталинские орлы, например, — подмена в мозгу происходила практически рефлекторно; трудно было отделаться от манкого, яркого образа реющего над горами глубокомысленного четвероногого:
Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины.
Осёл, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне, —
и образ всплывал при любом очередном, — а в них, к сожалению, недостатка не ощущалось, — патетическом высказывании, выступлении, призыве, при любой ссылке на священный авторитет.
Несколько дней спустя от собрания, почти стенографический отчет о котором занял предназначенное ему место в романе, Арсений случайно узнал — интуиция, оказывается, не подвела, — что фамилия главного действительно аллегорична и вместе с именем и отчеством представляет собою не более чем псевдоним Самуила Мейлаховича Чемоданера, закамуфлировавшегося не только переименованием, но и деятельным антисемитизмом еврея, который любил щегольнуть в редакторской правке неумело применяемыми беллетристическими фигурами девятнадцатого века, приговаривая при этом: я, конечно, не Лев Толстой; что Лев-то он, может, и не Лев, а Орел уж во всяком случае — подразумевалось. Перу Чемоданера, кроме правок, принадлежали: инсценировка «Войны и мира» для ТЮЗа, две политические пьесы, сценарий пропихнутого с высоты прежнего в Госкино положения документального фильма о спринтерах, к чьему числу главный редактор в молодости принадлежал, да начинающая предыдущую главу романа статья, гранки которой Арсений заставил вычитывать Арсения.
Впрочем, Чемоданер имел шансы попарить над дерьмяным Кавказом советской литературы несколько дольше, нежели позволяли его собственные и даже в соавторстве с известным графом написанные опусы. Однажды Чемоданер спустился на землю и ненадолго превратился из сталинского Орла в крыловскую Моську, в каком качестве и тявкнул пару раз на последнюю напечатанную в СССР поэму некоего поэтического Слона. Слону позволили — время по недосмотру высших властей проистекало слишком уж либеральное — дать Моське пинка в одной из центральных газет, однако то ли силы Слона были уже на исходе, то ли слишком уж защищена была Моська — она мгновенно оправилась, снова превратилась в Орла и воспарила уже пожизненно; и то сказать: в стране Моськиного проживания к тем порам Слонов не осталось, даже хиленьких. Пинок же несколько лет спустя попал в посмертное собрание Слоновьих сочинений, тем самым доставив Моське хоть Зоилову, а известность.
Все это, конечно, было так, но не заключали ли какого тайного, ехидного смысла последние слова искаженной строфы пушкинского стихотворения — вот какой вопрос возникал порою перед Арсением, — со мной наравне?
64. 15.30–16.44Я могу ее трахать сколько захочешь, невозмутимым, даже восклицательный знак рука поставить не поворачивалась, женским голосом проговаривал молодой негр, одетый в одну короткую рубашку, — та не могла скрыть роскошного его прибора, — и резким движением руки тыкал в голую проститутку на постели. Давай на пари: я буду ее трахать сколько захочешь! Одетый по моде тридцатых годов молодой человек, на котором висла другая проститутка, не вполне еще голая, доставал из верхнего кармашка пиджака зеленую десятидолларовую бумажку и протягивал негру. Давай. Ну. Начинай прямо сейчас, мямлил и за него тот же белый, безынтонационный, занудный голос. Негр рычал для храбрости, набрасывался на женщину, которая тут же с готовностью и даже некоторым любопытством занимала соответствующую позицию, — и начинал елозить по ней. Должно быть, у него ничего не выходило (буквально сказать: не входило) — целомудренный режиссер постеснялся укрупнить само поле сражения, — и негр задыхался, пыхтел, но вербализовывал свои эмоции столь же бесцветным тоном, как и прежде: я уже трахнул ее десять раз подряд. Не веришь? спроси. Ну ты, скажи ему. Трахнул, тем же, но впервые, наконец, вполне соответствующим изображению голосом подтверждала проститутка. Сейчас, продолжал пыхтеть негр и сверкал белками. Сейчас, но у него все равно ничего не в(ы)ходило. Тогда он вскакивал, отворачивался от камеры и принимался дрочить. Хочешь, отсосу? скучно, без тени возбуждения или смущения вопрошала переводчица за висящую на парне вторую проститутку. Не надо. Я сам. Я сам сумею ее трахнуть…
За закрытыми на замок двойными герметичными дверьми редакционного кинозала сотрудники, призванные сюда тем же самым звонком, получали компенсацию за открытое партийное собрание. Фильм шел, как обычно, скучный, секс не возбуждал, не вызывал ни зависти, ни любопытства, ни даже омерзения: в сотнях и сотнях московских квартир ежедневно и еженощно происходили вещи похлеще — и не имел к трудноуловимой сути картины никакого отношения. Так что Арсений — глаза давно привыкли к полутьме — вполне мог бы повторить давешний круговой обзор, сравнивая выражения одних и тех же лиц в разных предлагаемых обстоятельствах, разделенных получасом времени и двадцатью метрами коридора, и, несомненно, получил бы удовольствие большее, чем от фильма, отметив текущие по тройному Викиному подбородку слюни; выражение пресыщенного ленивого любопытства на лице развалившегося в кресле — зубочистка во рту — спецкора; страсть к негру, которою прямо-таки исходил поминутно кончающий Целищев; поблескивание идеологических глазок Гали; строгое осуждение в не желающем пропустить ни кадрика ословзоре, наконец, но… Но Арсению было совсем не до того.