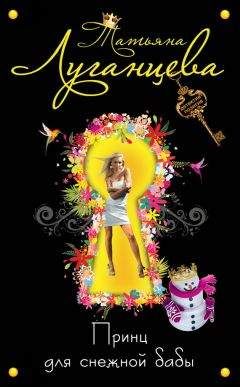Юрий Покальчук - И сейчас, и всегда
На рассвете бой разгорелся с особой силой. Партизанское подкрепление словно взбесило фашистов, хотя точного представления о численности макизаров у них не было. Они продвинулись по дороге, постепенно окружая группу Массата, и заходили сейчас лесом в правый фланг пулеметчиков Андрия.
Когда его группа отходила в глубь леса, буквально натолкнулись на партизан из другого отряда. Быстро сориентировались, кто куда, и через несколько минут фашистов, идущих шеренгой в обход отступившей группы, встретили огнем с двух сторон. Отбросили назад. Бой переместился на опушку. Днем стреляли куда прицельнее. Мы одолеваем их, подумал Андрий, одолеваем, это заметно. Они боятся — вот в чем штука, а мы — нет. Это тоже видно. После Клермон-Феррана они и впрямь стали пугливее...
В пятнадцать часов фашисты выбросили белый флаг, прекратив огонь сначала возле автоколонны, а потом на всех остальных рубежах.
Бросая оружие, поднимая руки, они выходили друг за другом на дорогу. И вот уже в колонне хозяйничают партизаны, выстраивая пленных, складывая оружие в машины. Бой, кажется, завершился.
Андрий спускался со своими пулеметчиками вниз, на дорогу, пошатываясь от усталости, от слабости после того, как неожиданно спало напряжение. Им овладело тяжелое спокойствие, даже странное, удивлявшее его самого равнодушие. Все закончилось. А я устал, мелькнула мысль, интересно, как они? Он оглянулся. Заострившийся подбородок Пако, время от времени облизывавшего пересохшие губы; непроницаемое Лицо Сато, его спокойный взгляд сквозь привычные, в трещинках стеклышки очков; меланхолическая улыбка Строгова, пулемет на плечах, обе руки подняты к оружию, будто покоятся на нем; настороженный, птичий взгляд Антуана вниз, на автоколонну; дымок от неизменной трубки Симона; все в копоти, заросшее рыжеватой щетиной лицо Збышека. Вот так и живем, думал Андрий, вот так и живем, пока живы. Война скоро закончится, может, и дотянем. А дальше что?
Пленных собрали в Эстиварее. В штабе партизанского соединения допрашивали немецких офицеров. Всего в колонне гитлеровцев было тысяча сто восемьдесят человек. Майор, возглавлявший колонну, отвечал четко и бесстрастно. Сколько убито, не знает. Раненые все здесь.
— А вы знаете, — улыбнулся Массат, когда допрос закончился и все, что требовалось, немец сообщил, — а вы знаете, что, когда мы вас встретили, я и мой отряд, нас было шестьдесят четыре человека.
— Не может быть, — вскинулся майор, — не может быть! Это неправда!
Массат смеялся:
— Правда, герр майор, святая правда.
Немец закрыл лицо руками:
— Майн готт! Мы могли так легко прорваться!
— Не сокрушайтесь, герр майор. Вы поступили правильно. Теперь очевидно, войну вы проиграли. Так у вас есть хотя бы шанс выжить. А иначе вам конец. Всего нас было триста пятьдесят, мы дрались, и вам пришлось сдаться. Это уже когда бой шел вовсю. Считайте, что вы сдались не нам, а французскому народу, а перед народом любой захватчик бессилен. Слабое утешение, но все-таки... не правда ли, герр майор?
Вот тут-то пришел часовой, привел женщину из Эстиварея, которая рассказала о сожженных домах, об изнасиловании, обо всем.
Массат побледнел.
— Выстроить пленных па плацу. Всех, кто может опознать насильников и поджигателей, сюда. Немедленно.
И потом, когда выяснилось, что среди восемнадцати нелюдей был немец в чине капитана, вот тогда командир одного из макизарских отрядов и завел велеречивый разговор о правосудии для всех пленных. Тогда и взорвался обычно спокойный и выдержанный Массат...
Подобные споры возникали и в отряде, особенно не унимался Маре. Самоуверенный, даже безапелляционный в своих речах, он откровенно недолюбливал коммунистов, и, хотя Массат запретил политические дискуссии, чтобы не сеять среди партизан взаимного недоверия, Антуан однажды едва не сцепился с Маре, опять пустившимся в патетические рассуждения о французских традициях и подлинной власти, единственным полноправным представителем которой он считал генерала де Голля..
— Де Голль спас Францию, — доказывал Маре. — Если бы не он, не его энергия и ум, не его военное руководство...
— Однако партизанская война во Франции началась по призыву коммунистов.
К согласию они не пришли, и, после очередного обмена словесными аргументами, Антуан просто бросился на Маре. Их разняли, и Маре сказал, переводя дыхание:
— И они еще хотят руководить государством. Надо сначала научиться вести себя.
Антуан снова закипел, но тут обоих вызвали в штаб. Через полчаса из штаба они вышли молчаливые, притихшие.
Больше таких инцидентов не было, хотя споры и продолжались.
Когда разрешился вопрос с пленным капитаном, прозвучал жестокий, праведный приговор, Пако сказал, что ему это надо. Ему надо еще мстить, надо держать крепко оружие, надо нести смерть врагу.
Как долго это будет нам нужно? Убивать, отвоевывая правду у неправды, защищая человечность от зла, отрицая одно бытие ради другого? Куда мчит нас наша юность, наша молодость? Какие волны несут нас в гигантском океане жизни? И куда нас, в конце концов, вынесет прибой?
Есть направленность движения, есть путь, избранный сознательно и твердо. Вот только в жизненном пасьянсе карты ложатся как-то невпопад и игра со смертью слишком сурова, только ожесточаются наши чувства, устает сердце, тяжелеет душа. А мы идем. Идем вперед каменистой дорогой в горах. Кажется, мы шагаем так же беспрерывно, как в те дни под Барселоной, когда выбирались из окружения. Сколько лет миновало с тех пор, а мы идем все той же горной тропинкой, и так же подстерегает нас опасность, караулит смерть, падают рядом товарищи. В любой момент может упасть любой из нас. Что же дальше? Сколько останется в душе Пако той пылкой юности, тех жарких страстей, той веры в грядущее, которую упорно и жестоко ломает страшное сегодня?
Доживем ли мы до победы? И какими? Уже скоро, совсем скоро, уже чувствуется ее дыхание, уже советские войска освободили всю свою страну, бои идут в Польше, Чехословакии, Румынии, Югославии. Скоро конец фашизму. Вот-вот станет свободной Франция. Война закончится. Куда же мы дальше?
Что там, в далеком Луцке? Смогли ли мои родители пережить ужасы оккупации, живы ли они, мои старики? Подрастает Ганнуся. Восемь лет не был я дома, не видел их, давно не знаю, что с ними. Мысли мои достигали Луцка все реже, некогда было думать о нем, бессмысленно загадывать. И вот война на пороге победы, и я все чаще думаю об улочке Спокойной, о доме номер семь, где прошло мое, такое безоблачное, детство и откуда началась моя, такая бурная, юность. Сто лет с тех пор миновало, тысячу лет назад какой-то мальчишка окунулся в мир страстей, какой-то юноша увлекся революционными идеями и, считая себя чуть ли не горящим факелом, со всей юной безудержностью бросился навстречу мировым бурям... Где они теперь, этот мальчик, этот экспансивный юноша? Восемь лет прошло. И тот, кто сидит сейчас на приступке аккуратного домика в селении Эстиварее вечно прекрасной Франции, уже не имеет ничего общего с бывшим гимназистом Андрием Школой. Все изменилось, неизменна только память. Только память и вера, что тратил себя недаром.
Тебе уже захотелось домой, ты устал от дальних странствий, от других стран, наречий, людей. Ты рвешься домой, только домой. У тебя наконец обнаружилась дремавшая до поры до времени ностальгия, тебе начал сниться дурманящий аромат весеннего вишневого цвета в дедовой усадьбе, несокрушимый запах яблонь, ты видишь мамины пышные пионы перед домом, пытаешься представить вживе лица родителей, уже расплывающиеся в памяти, — возродить ощущение уюта, чего-то родного, самого родного на свете. Родни. Родного края.
Надо поговорить с Пако. Надо принять окончательное решение. Украина воссоединена, Волынь теперь там. Пако должен ехать со мной. Куда он денется один здесь, во Франции, да и зачем? А в Испании затаился фашизм. Франко не вступил в войну, потому что знал: проиграет. Чувствовал, палач, где надо остановиться. Теперь десятки тысяч эмигрантов, беженцев из Испании, остались без родины.
Нет, у Пако теперь одна родина — моя. Как решится с Испанией, когда у него будет возможность вернуться, и захочет ли он, не время об этом думать. А сейчас у нас один путь, одна цель. Надо поговорить с ним немедленно, может, это выведет его из оцепенения, оторвет от оружия, к которому он прикипел намертво. Мы будем воевать до конца, но надо воевать с открытыми глазами.
— Андрес, — сказал Пако, — с меня хватит. Я устал от всего этого. У меня нет больше сил. Я решил, поеду с тобой, ладно? Я имею в виду — туда, на Украину, я уже хочу думать о какой-нибудь жизни. Что мы будем делать после победы?
Он стоял перед Андрием, и усталость тяжелыми морщинами лежала на его лице. Юношеские черты с трудом проглядывали сквозь печать какого-то преждевременного старения. Жесткие складки у рта, заострившийся нос, тяжелые клочья давно не стриженных волос. Глаза его без всякого выражения смотрели на Андрия, но вот блеснуло в них что-то от прежнего Пако, что-то живое, улыбчивое.