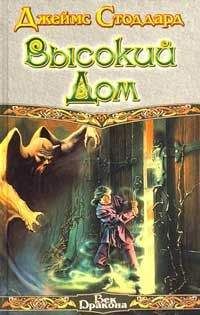Владимир Шаров - «Мне ли не пожалеть…»
Желая потрафить Лептагову, они теперь пели так, что было видно, что больше они ни на что не надеются, ни на что не уповают. Бежав, Бальменова унесла и все их мечты о спасении, сейчас они просто каются и кротко ждут того, что Господь им предназначил. Однако и здесь им было трудно удержать меру; то и дело они принимались изгаляться, юродствовать в этом своем раскаянье, в этой готовности без ропота и стенаний принять назначенную им участь. Кончали же они тем, что как же им было ей не поверить, ведь она утешала их, обещало спасение и избавление, а он, Лептагов, говорил только о смерти, о раскаянье и смерти.
Он видел, что они в самом деле идут, возвращаются к нему, тут не может быть никаких сомнений. Он не ждал ничего подобного, и однажды это так его тронуло, что он вдруг поверил, что она и вправду их совратила. За это ему потом было стыдно до конца своих дней.
Но примирение с хором состоялось, и с того дня репетиции уже идут обычным порядком. Один за другим возводятся храмы. Он снова самодержавен и самовластен, Бальменова же напрочь вычеркнута из их жизни, вычеркнута, словно ее и не было.
В это время, идущее вслед за отъездом Бальменовой, когда хор, лишенный надежды, молил Лептагова об одном — простить его, дать возможность покаяться перед Богом, сам Лептагов был разный. То он был мягок и хорош с хористами, то, наоборот, тратил весь репетиционный день, чтобы объяснить им, что, в сущности, они никаким хором считать себя не должны, они не должны больше думать о том общем звучании, которое дает ему право строить из них обращенные к Богу храмы. Это звучание, ради которого он столько работал, примиряя, соединяя, сводя их вместе, — не истинно, он добился его с помощью хитрости, подлости, политики, и оно не может быть угодно Богу.
Он был теперь убежден, что настоящее звучание уже было в нем до того, как он начал работать с хором; он презрительно втолковывал им, что оно со всеми его обертонами и полутонами, со всеми его нюансами было в нем от рождения — отсюда его высокомерие и жалость к ним. Я сейчас не способен сказать точно, возможно, то, что он говорил, и было правдой, но даже если это так, это — лишь ее часть. Он забыл им сказать про свой страх. Этот страх, не оставляя его с первой же кимрской репетиции, рос в нем и рос; он боялся, что когда все они, все до последнего голоса будут собраны — вот тут и произойдет чудо. То есть, когда они сойдутся и все вместе покаются Господу, произойдет нечто, никоим образом не объяснимое. Они вдруг освободятся от него, освободятся раз и навсегда, и начнут звучать так, что любому, и ему в том числе, будет ясно, что от него, от того, чему он их учил, здесь нет ничего. Не он ставил им голоса, не он строил из них храмы, не он учил их каяться Господу — нет, просто есть они и Бог, а места для третьего между ними нет. Но сейчас он делал вид, что не помнит об этом страхе, и говорил им:
«Ведь вы ненавидите друг друга больше жизни, больше желания жить ненавидите друг друга… О каком же общем звучании может идти речь? Или вы думаете донести до Господа свою ненависть и тем спастись?»
Теперь он считал, что сколько бы они ни сопротивлялись, его миссия - заставить их понять, что каждый из них — один, а не часть хора, один он и должен предстать перед Богом. Они всегда хотели говорить с Богом, будто они народ, а не отдельные души, и это неспроста, а чтобы растворить, смешать свои грехи с грехами других, так что уже и не скажешь, кто в чем виноват. Он знал, что на этот раз добьется, чтобы всякий из хористов отныне пел свою арию соло и по очереди, и эту очередь он будет устанавливать в соответствии с собственным представлением о справедливости. Лишь одну уступку он допускал: покаяние того, чей голос был слаб, хор будет как бы поддерживать, поднимать всей своей силой, чтобы и его молитва дошла до Бога.
Он говорил, что раньше в том, что они хотели предстать пред престолом Господним вместе, хором, со всем, что в них есть хорошего и плохого, он не видел ничего дурного, но после Бальменовой, когда понял, как мало в них раскаянья, когда понял, как сильна в них жажда, чтобы их грехи взял на себя, искупил ее Сын, он больше не верит им и он добьется, чтобы каждый каялся поодиночке. Все же я знаю, что иногда он жалел, что разрушил ту музыку, которая была в этих их смутах и неладах, в этой их вражде и любви.
Впрочем, жизнь его оправдала. Оказалось, что и когда они пели вот так, по-новому, это их собственное изначальное звучание уцелело, никуда не ушло, они и в самом деле были не скопищем, не сбродом, не толпой, а народом, хором. Это звучание было не только в поразившем его с первых репетиций исступленном желании покаяния, но и в той совершенно невиданной страсти, с которой они обличали мир. Все они: и скопцы с хлыстами, и народники — были убеждены в бесконечной, не имеющей никаких оправданий греховности земной человеческой жизни, в необходимости покончить с ней, уничтожить ее раз и навсегда. Сам Лептагов боялся такого понимания греха, потому что оно как бы их обеляло — все равно греховны и все равно должны погибнуть. Он был очень искусен и очень хитер, этот народ, раньше он прятал свой грех в себе — теперь же прятался среди других народов.
Надо сказать, что позже Лептагов и сам часто не понимал себя, удивлялся тому, как резко, несправедливо и вне всякой связи с Бальменовой менялось его отношение к кимрскому хору. После войны он вспоминал, что было время, когда он снова думал, что эти организованные и худо - бедно обученные голоса никому не нужны; куда лучше просто толпа голосов и их ненависть друг к другу. Тогда пускай сколько угодно взывают к Господу, сколько угодно и как угодно. В те дни он безбожно их друг с другом мешал, тасовал, делал все, чтобы отнять у них пространство, свободу соединяться со своими и здесь, среди своих, ничего не боясь и не стесняясь, петь в полную силу. Он любыми средствами, даже если оно возникало случайно, разрушал традиционное расположение голосов в хоре группами, где голоса, дополняя и поддерживая друг друга, заставляют звучать хор во всю мощь. Тем более, если он чувствовал, что они сговорились, начали сами так строиться — тогда он разгонял их совершенно безжалостно, не слушая ни объяснений, ни оправданий.
Это не было продиктовано какой-то личной враждой: ему просто казалось, что неизбежное столкновение голосов, соперничество между голосами разной окраски и разного тембра — между высокими и низкими голосами — их естественное взаимное неприятие и вдруг неведомо как рождающееся из него союзное, проникнутое пониманием всего и всех пение — а он знал, что оно рано или поздно непременно будет, — вот к чему он должен стремиться. Он был убежден, что отдельно, без соперничества и ненависти, голоса сразу закиснут; когда же от соседа невозможно спрятаться, отойти и на шаг, когда два их пути, два их понимания мира так резко соприкасаются, давят друг на друга — они будут вынуждены выкладываться на полную катушку, вынуждены будут открыться. Но реальность оказалась удручающей. Поле хора было почти целиком занято мелкими и оттого особенно отвратительными стычками, склоками. В голосах, которыми они послушно и как бы искренне каялись, было намешано столько злобы человека, которому не дают молиться, которого забивают, так что он сам себя не слышит, что помочь тут не могло ничего.
Сначала Лептагов был обескуражен неудачей, даже думал распустить хор. Но потом, наконец, ему стало ясно, что любые новации, любая революция должна иметь границы — сейчас же хористов надо развести, разделить, лучше всего поставив на разные берега Волги. Надо полностью вернуть им законы хорового пения и дать возможность хоть как-то успокоиться, прийти в себя. Они внутри себя должны были окрепнуть, утвердиться и в собственной правоте, и в силе, и в близости к Богу, и только тогда он мог им опять сделаться полезен.
Кстати, не так просто оказалось и с Волгой, на которую он очень надеялся, — два берега ее были не равны друг другу. Правый — высокий, вздымающийся и над водой, и над другим берегом, левый — низкий, болотистая луговина, затапливаемая паводковыми водами, и Лептагову пришлось тогда проявить неимоверную изворотливость, чтобы в конце концов все хористы остались довольны подученным местом. Он говорил им, что низким голосам нужен высокий берег; звучание у них тяжелое, оно стелется по земле, а высокие голоса вполне можно поставить на луговину, они легки, устремлены вверх, Господь их услышит; в итоге же оба берега сравняются и это будет честно. Он, конечно же, здесь учел и то, что многие скопцы — крестьяне, а пастбища и пахотные земли на низком берегу богаче. Эсерам же, новым Прометеям, будет приятно нести народу истину с высокого, обрывистого берега, петь, нависая над бездной.
Пусть они, как и раньше, веровали по-разному и совсем по-разному смотрели на добро, по-прежнему звали друг друга жидами, распявшими Христа, но все это был один мир, и он, расставив их по обоим берегам Волги, сумел убедить хористов, что это правда. Грех и чистота были в этом мире, все в нем было, все-все, что должно было быть, и они наконец согласились, что так и должны пропеть, исполнить его. Пускай, говорил он им, каждый живет и верует, как знает, не надо ему мешать, и ему, Лептагову, тоже не надо мешать их всех собрать и свести вместе; Господу это угодно, Господь хочет, чтобы он всех Его детей собрал и только тогда Он решит, сможет решить, что с ними со всеми — и праведными и грешными — делать.