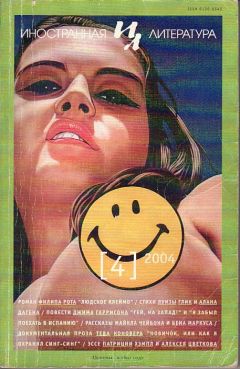Инесса Ципоркина - Мир без лица. Книга 2
И этому новому Марку нет дела до Фреля, до Легбы, до всех нас — выживем ли мы, погибнем ли, пока Добрый Боженька будет выяснять отношения с… чем? Кабы знать.
Ну вот, Легба все-таки присоединился к нам. Лоа, вселившийся в Фреля, верит: он обязан догнать жену в ее темных скитаниях и самолично проводить назад, а не поджидать у одра болезни, пока все разрешится по воле Бон Дьё. Особенно столь беспощадного и безоглядного Бон Дьё…
Гвиллион, сияющий ровным светом раскаленной лавы, служит нам вместо факела. Тело его, до недавнего времени тяжелое, словно камни у подножия замка, в пещерах под островом обрело текучесть и беззвучность, для которой и сравнения не подберешь. Не существует бесшумных тварей в подземных мирах. Малейший шорох, скрип и шелест, издаваемый ползущей или шагающей плотью, многократно отражается от стен, выплетая паутину звуков — скверный заменитель картинам, доступным глазу. Всякое тело звучит в подземных тоннелях на сотни голосов — но не дух камня, не дух огня.
Скальные пещеры Корасона невероятны. Каменные чаши, перекрытые тьмой, точно сводом, от горизонта до горизонта. Под ногами поскрипывает то влажный мох, то влажный песок, то влажный камень. Не прирученные человеком, не освещенные прожекторами всех цветов радуги, не истоптанные толпами туристов, они скрывают в непроглядной тьме известковые лезвия, свисающие с потолка и растущие из пола, точно клыки гигантской пасти. А вдруг это и есть глотка Тласолтеотль, богини, пожирающей грехи вместе с теми, кто их совершил?
Подтверждая мое кошмарное предположение, из далекого коридора, к которому Гвиллион ведет нас через бескрайнюю долину, доносится волна смрадного воздуха. Монстр дышит — слабо, точно во сне. Мы идем по его каменному языку прямо в сводчатый пищевод. Хотелось бы мне знать, где были мои мозги, когда я отправляла своих спутников на верную смерть в утробе подземного чудовища? И почему мне кажется, что пути назад нет и не было никогда, что и впереди, и позади — только она, отравленная дыханием зверя, пронизанная отзвуками тьма?
Мне хочется заговорить с Морком. Или с Гвиллионом. Или даже с Марком. Мне хочется издать хоть какой-нибудь звук, заорать, завизжать, заплакать, наконец. От моей гордости фоморской принцессы, умной и проницательной, сильной и сдержанной, хваленой-перехваленой, почти ничего не осталось. Стены и потолок, невидимые вдали, рушатся на меня всей своей невообразимой массой, давят мое тело, будто виноградину… Что со мной? Разве мало я видела пещер и гротов в своей земной и подводной жизни? Разве не я заплывала в самые ледяные и бездонные провалы океана, чтобы убедиться — там, на истончившейся земной корке, прикрывающей слой магмы, не водится ничего страшнее крохотных пучеглазых или вовсе безглазых созданий? Почему я — я, исчадие самой бездны — боюсь пещер Корасона? Клаустрофобия здесь ни при чем. Я боюсь их, потому что они ЖИВЫЕ.
И тут остров Корасон сделал вдох.
* * *— Здравствуй, Ландвиди! — орет Видар, вертолетом раскручивая над головой узловатую дубинку, оружие тролля, вытесанное там, в оставшемся позади Утгарде. — Привет, лес! Привет, пророчицы! — в адрес двух статуй на крылечке. Двух моих зачарованных коллег, низших божеств, по воле аса застывших изваяниями на грани жизни и смерти.
Смешная готка Скульд в черных шелках и степенная Урд в средневековой котте*[70] пронизывают отчаянными взглядами пространство зеленой долины, названной людьми Долиной Неверно Понятых — то ли в честь норн, то ли в честь путаника Видара… Пора положить конец этим непоняткам.
— Оживляй! — безапелляционно требую я. — Оживляй, чего ждешь?
Бог Разочарования мнется. Если он разочарует меня в третий раз, я его стукну! Нуддом стукну! Со всей силы!
— Они наговорят тебе… разного, — бубнит он, точно провинившийся школьник. — Ты поверишь и будущее воплотится.
— Здесь Я решаю, чему воплощаться! — рычу я. — Ты вообще понимаешь, зачем мы здесь? Чтобы ТЫ мог сказать Фенриру правду. Не утешительную выдумку, а правду.
— Какую? Что его все-таки посадят на цепь? Что я должен его убить? Вот этой самой рукой загнать ему, живому, в горло распорку, а потом воткнуть меч в нёбо, до самого мозга?
— Это — неправда, — веско заявляю я. — Сейчас мы сделаем так, что этот сценарий сдохнет. И ты не будешь убивать своего друга. Ни ради мщения, ни ради выхода из мирового кризиса, ни ради нового мира. Вот увидишь — будущее растет из настоящего, а не из откровений сумасшедших ведьм. Давай, оживляй их!
Видар вялой рукой рисует в воздухе знак. Воздух визжит под его пальцами, будто стекло под ножом. Знак расплывается в воздухе, словно кровь в прозрачной воде — алое перетекает в розовое, розовое выцветает до невидимости. И Скульд отверзает уста:
— Ты не уходила, Верданди?
— Уходила! — мрачно ответствую я. — Уходила, возвращалась, снова уходила и снова возвращалась. Поговорить надо.
— О чем? — хриплым от долгого молчания голосом осведомляется Урд.
— Об устройстве мира.
Многое из того, что поведали мне сестры-прорицательницы, давно известно — и не только мне. Имена норн говорят сами за себя. Имя Скульд значит «долг». Имя Урд — «судьба». Верданди, Верд — «становление». Все, что случилось, вольется в настоящее, как в реку. И повлияет на судьбу реки, на ее путь и на ее воды. Но меня им не обойти. Русло в будущее пролагаю я. На что и был расчет.
— Видар и Фенрир соединяются в прошлом — страх, ярость и обида кует цепь прочнее той, которой еще нет… — журчит голос Урд. Она методично обходит вазы с сухими цветами, легко касается скрученных, точно от жара, листьев и лепестков. Вазы, в которых стоят букеты Урд, видно сразу. В букетах, составленных Скульд, цветов нет — одни бутоны и ветки, покрытые почками. — Когда неразрывная цепь Глейпнир возникает, она проходит не только через тело Фенрира, она пронизывает и душу его. А еще — душу Видара, Бога Мщения. Глейпнир нельзя разорвать никому, только Фенрир сможет избавиться от нее, да и то лишь в день Последней битвы, не раньше. Цепь эта сделана из корней сущего и несуществующего и великая сила заключена в ней.
— Будущее родилось не из воли живых и мертвых, а из этой цепи, — поддакивает Скульд. — Она тянула богов и чудовищ за собой, она заставляла Фенрира искать Одина, чтобы убить и отомстить за обман, за унижения: вольный волк — и вдруг на цепи, в смрадной тьме!
— Они надеются отсрочить Рагнарёк на века, но не понимают, что злоба Фенрира так огромна, что ее боится даже время. Его ненависть гонит время, как стадо овец, времена бегут все быстрей, чувствуя свой конец. И Последняя битва приходит так скоро, что никто не готов к ней, — подхватывает Урд.
И обе они говорят в МОЕМ времени. Это будущее растет на почве, которая у меня под ногами, на МОЕМ настоящем. Ведь я тоже шла уничтожать Фенрира. Я поверила Фригг, я смирилась с неотвратимым.
Да нет, зачем я вру себе? Я вообразила себя спасительницей мира. Спасительницей, которая действует как положено: есть монстр, есть оружие, есть враждебная терра инкогнита, есть грядущий апокалипсис. А также есть я и моя роль — до донышка прозрачная и очень, очень выигрышная… Эх, Мирка, Мирка, как же ты любишь покрасоваться, попозировать, одной ногой стоя на поверженном враге! Притом, что реальность многократно доказывала: лучшие победы — те, в которых никого не приходится повергать во прах. Победы ума, а не оружия. Оружие, бездушное или одушевленное, так легко выкрасть, отбить, перехватить, обратить против владельца…
Признайся хотя бы себе: ты ничуть не умнее мальчишки Видара, тебе тоже хочется драки, мщения, самоутверждения. Как же ты мечтаешь предстать в силе и славе перед теми, кто не верил в тебя — да и сейчас не верит. Ткнуть их носом в свои достижения: глядите, придурки, кого вы недооценили, недолюбили! Вот она я, неотразимая во всех смыслах, вся в белом и благоухаю, как роза! А вы… вы… с вашими жалкими нотациями, с вашими убогими амбициями… Тьфу на вас на всех!
Детство голопузое. Вечно обиженное на тех, кто сильнее.
Из-за него, из-за детства, полного обид, моя реальная жизнь превратилась в сплошную Последнюю битву. Из-за него я много лет не задаюсь вопросом: стоит ли ввязываться в драку? Ответ один: стоит! Чтобы еще раз доказать себе: это я в белом, на белом коне, осыпанная цветами и похвалами, стою, попирая изрубленный труп. Я, Видар, бог, выросший в лесной глуши, бастард и полукровка, взявший от отца больше, чем смогла бы дать его божественная неразбавленная кровь, унаследовавший его силу, его власть, его вселенную. Пусть все погибнут, пусть всё погибнет, лишь бы мне подняться над развалинами мира полновластным повелителем руин…
— Ты всё понял? — обращаюсь я к Богу Разочарования. — Тебе ли не знать, что твоя победа — пиррова? Ты хочешь истинной победы?
Видар кивает. В его глазах — тоска ребенка, впервые сознательно отказавшегося от любимой игры.