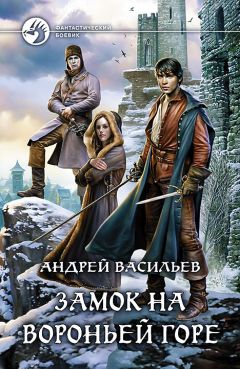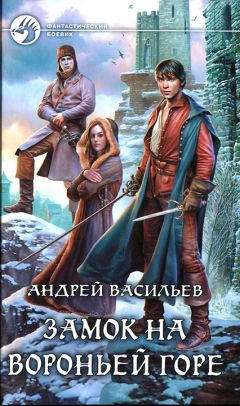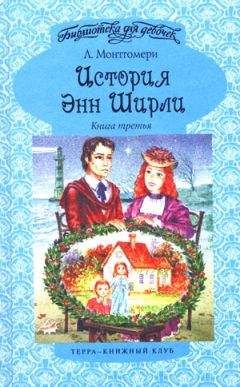Афанасий Мамедов - Фрау Шрам
Я принялся вяло ей отвечать, начиная осознавать уже всю бесперспективность этой прогулки, — и тут меня осенило. Нет, правда, в самом деле — осенило!..
— А хочешь, я расскажу тебе, над чем сейчас работаю? Дивная история. Настоящая. И грех, и боль, и та самая тонкая грань, которую поначалу не замечаешь, но за которую едва только… как тут и вся жизнь твоя наперекосяк.
Наверное, у меня очень загорелись глаза; наверное, они у меня загорелись точно так же, как горели демоническим, злым огоньком у Арамыча, наверное, именно этого огонька в глазах и ждала от меня Ирана, — иначе разве у нее самой воспламенился бы так взгляд, и разве отвела бы она глаза, интимно кашлянув, как кашляют во сне, переворачиваясь с одного бока на другой и отгоняя от себя самое запретное, самое невозможное.
Она предложила мне пойти в Молоканский сад. Там, на низенькой скамеечке у фонтана с тремя нимфами, переименованными нашим городом в «трех блядей», я, попыхивая сигаретой, присвоил себе чужую историю, в правдивости которой теперь, по прошествии некоторого времени, не мог быть абсолютно уверенным, кроме двух-трех мест, в которых так угадывалась Христофорова душа, мятущаяся и неприкаянная.
…Он мне уже в сотый раз говорит: «…каждое наше переживание касается тела и остается в психике, — сейчас он попросит сигарету; а если не попросит, то лишь потому, что знает, именно об этом я и подумал. «Если реакция заблокирована, она оставляет след в виде хронического напряжения мышц. Реакция не умирает, а только отступает внутрь тела, продолжает существовать в подсознании. Правда, ее можно активировать в процессе терапии…» Я съехидничал: «…разумеется, игровой. Вариант для взрослых. «Телеска» — ваш конек, сами говорили».
Глаза его загорелись демонически огоньком, а широкое лицо с недавним бритвенным порезом, начало заметно разглаживаться и молодеть: «А хотите историю? Настоящую. И грех, и боль, и та самая тонкая грань, едва перешагнув которую…Тогда сейчас… Минуточку…»
Арамыч выскочил из комнаты, подволокнув задремавший у ноги шлепанец.
Такая прыть полного, немолодого мужчины в халате «унисекс» не могла не вызвать улыбки, и я улыбнулся. Снисходительно. И начал разглядывать черепаховые очки — семейную реликвию, которую он мне подарил, после нашей болтовни — о пороке, о тонкой грани, о мужчине и женщине: «…берите, берите они вам нужнее, плюс единичка — в самый раз».
Через пару минут он вернулся с початой бутылкой коньяка, зажатой под мышкой, словно градусник, двумя хрустальными рюмочками и блюдцем, на котором лежала половинка лимона с таким большим отростком на конце, что он напоминал куриную попку.
Не утруждая себя тостом, Арамыч налил, выпил и начал без вступления. Рассказ получался с «атмосферой» — о том, о чем человек его возраста, его положения, несомненно, решил бы умолчать или же придать истории гротескный характер.
Похоже, единственными и несомненными достопримечательностями этого городка, так умно расположенного на зеленых холмах у моря еще древними греками, считались широкая, относительно прямая набережная, уже с ранней весны по осень позднюю запруженная беззаботными курортниками, едва лишь начинало смеркаться да небо прокалывалось первыми звездами, и темные, невысокие развалины зубчатых стен генуэзской крепости, будто раскрошенных упорным обстрелом кариеса.
Двенадцатилетним мальчишкой оказался Христофор в этом городке, продуваемом теплыми понтийскими ветрами, и первое, что увидел мальчик из окна бабушкиного дома, были развалины старой крепости; сюда и зачастил он: тихо, хорошо, над головою облака, а если кто приставать вдруг надумает, ну, как к «сыну врага», — до дома, до бабушки, рукой подать. По средневековой лесенке без перил вниз винтом узким юрким, — и вот под балконом ты уже своим. Кто тебя здесь тронет? Кто посмеет? Да и не могли пристать, ведь поменяли же ему фамилию с отцовской — Тумасов, за которую лагерями пришлось заплатить, на материнскую — Мустакас, добром известную в этом городке.
Забравшись на полуразрушенную башню, любил Христофор смотреть на разминированное море — светло-зеленое, теплое поближе к берегу и темно-синее, холодное вдали, на паривших чаек любил смотреть и на набережную с мороженщиками, ушлыми фотографами и не менее ушлой немецкой обезьянкой по имени Курт, достававшей из плоского солдатского котелка фатальные записочки, а потом (почему-то всегда вдруг) по-обезьяньи бесстыдно задиравшей тельняшку и демонстрировавшей свои Куртовы гениталии послевоенной толпе, до которой (с той самой заминкой, вполне достаточной, чтобы разразиться хохотом) вдруг доходило, что Курт, оказывается и не Курт-то вовсе.
Со временем на башне, на стене с узкими бойницами, уходил, исчезал помаленьку страх и то ощущение скованности и подавленности, связанное с насилием, какое донимало мальчика сначала в пересыльной тюрьме (в бараках на Шелепихе), потом в «теплушках», охраняемых конвоем, когда их с матерью целых три месяца гнали в далекий Минусинск, потом на приисках, когда мать приходила из шахты, еле дыша, валилась с ног и говорила: «хочу умереть», и ему казалось, что мать, действительно, вот-вот умрет. Со временем на развалинах генуэзской крепости мирная жизнь все понятней и понятней становилась Христофору. Набережная была уже не только местом, где всевозможные наслаждения отнимают желания у людей, и те к концу сезона начинают походить на след, оставленный пенистой волной, — а сценой, на которой развертывалась удивительная игра, в которой он, Христофор, всею душою жаждал теперь участвовать и на которую так боялся опоздать — «если бы вы знали, как мне хотелось взглянуть на башню снизу: ведь вообразив себе нечто навеки утраченное, можно придать смысл тому, что еще осталось, но для того, чтобы вообразить, необходимо расстояние, нужна перспектива».
Христофор уже совершил несколько удачных вылазок вниз, на набережную; он, даже обратившись за помощью к всеведущему демону бабушкиного зеркала, начал было готовить маску, пока еще похожую на его же собственное лицо, как тут начались гонения на греков и его с матерью вновь выслали, на сей раз уже в Казахстан, в степи широкие и бескрайние, как то первое в своей жизни море, на которое он любил смотреть.
Там, в степях, юный Христофор начал проявлять интерес к судьбе погибшего отца. Он и раньше просил мать рассказать о нем все, что она знала, все, что могла когда-либо от кого-либо слышать, — но та считала, что чем меньше ее сын будет бередить прошлое, тем лучше для них обоих. Однако вскоре мать мнение свое изменила, она и сама-то заметно изменилась — подобралась, помолодела, обзавелась новой прической. И вот однажды повела она Христофора в больницу (большой, выкрашенный зеленой краской барак с «карантинной» пристройкой) и познакомила с человеком, водившим тесное приятельство с его отцом еще в Испании. Был это новый главврач больницы (скорее санчасти) умница, настоящий книгоящер, почитатель вдов, закоренелый любитель медицинского спирта и по-настоящему отличный рассказчик, несмотря на довольно сильное заикание. Ему-то юноша, потерявший отца («хранителя очага»), и был обязан первым поворотом в жизни и становлением на долгий путь («с которого я то сходил, то вновь возвращался, пока не научился идти и не смотреть ни вперед, ни назад, а просто идти».)
Христофор устроился медбратом («жалованье небольшое, но ведь деньги все же, работа странная, что и говорить, однако нравилась».) Теперь Христофор взахлеб читал по ночам «умные книги», которые советовал ему соратник отца, изучал анатомический атлас, штудировал латынь и слушал его байки, освященные зеленокупольной настольной лампой, иногда сопровождаемые тем или иным пожелтевшим и сломанным снимком или старой вещью, благодаря которым он ярче представлял себе то или иное событие, образ («все-таки, насколько же прозрачен, порист и сквозист мир!»)
Узнал Христофор, что его отец «поднимал революцию» в Хорезме, охотился на «банды басмачей», как на диких животных, а те охотились на него. Всю жизнь он мечтал стать театральным художником, но почему-то так и не закончив ВХУТЕМАС, вдруг занялся журналистикой, — и, надо сказать, довольно успешно. Работал в «Правде» у товарища Мехлиса. И поскольку Арам Тумасов человек был «рисковый», большевик с головы до ног, партия решила направить его в Испанию. Его репортажи и очерки, написанные в «телеграфном стиле», читала тогда вся страна. После Испании — снова «Правда». А потом — Великая Отечественная. В сорок первом под Житомиром военный корреспондент Арам Тумасов угодил в окружение. С боями прорывался до самого Малоярославца.
А в декабре, когда уже до наших чудом удалось добраться, — начинаются допросы особистов. Потом вроде отпускают совсем ненадолго и вновь забирают, забирают с квартиры любовницы, молодой красивой польки, проживавшей где-то на Патриарших прудах. Ходили упорные слухи, что Арама забрали по навету старшей сестры этой самой красавицы. Снова лагерь, снова допросы, а через год «вышка». Ну вот, пожалуй, и все, что мог рассказать сыну своего друга главврач затерянной где-то в казахских степях больницы. («Хотя, вот еще одна деталь напоследок…») Были у Арама Тумасова очки, немецкие, трофейные, в добротной черепаховой оправе; успел их Арам оставить своей возлюбленной — Марии, Марии Осиповне, вернее, Иосифовне, так как очки могли сыграть недобрую службу («как ведутся допросы, он уже знал, и как ловят на «улику» — тоже»), ведь ему вменялось сотрудничество с немцами на оккупированной территории.