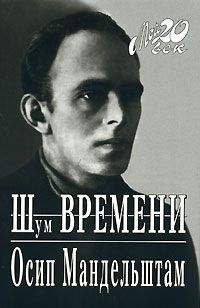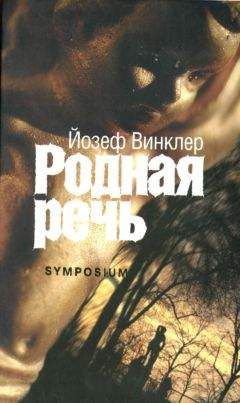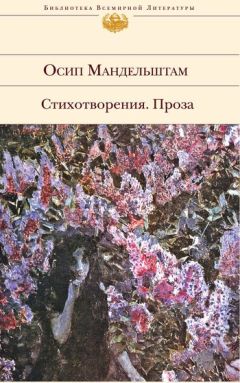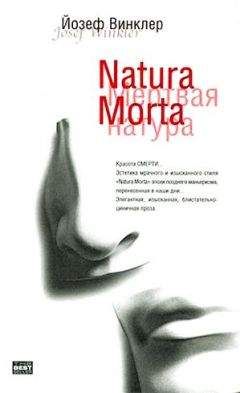Йозеф Винклер - Кладбище мертвых апельсинов
На последнем ряду церковных скамей, сложив рядом с собой свои полиэтиленовые пакеты без надписей, сидела нищенка. Она кашляла и молилась перед статуей папы Пия IX. Служка с монгольским лицом крестил лоб всякий раз, когда священник произносил в микрофон: «Signore Pietà! Cristo Pietà!» Женщина пыталась успокоить новорожденного, давая ему пустышку, прикрепленную к ее четкам, которую младенец всякий раз выплевывал. Широко раскрытыми глазами глядя на читающего проповедь священника, она, что-то лепеча, обращалась к плачущему ребенку и, поплевав на свой указательный палец, нарисовала своей слюной на его лбу крест. Крестик, висевший на длинной цепочке на шее младенца, которого крестили, оказался как раз на его половом органе, причем именно в тот момент, когда одетый в зеленую ризу священник большим пальцем рисовал освященным мирром крест на лбу ребенка, а монгольского вида служка, непрестанно гримасничая, стоял в добром десятке шагов от купели перед алтарем. Священник поднял ребенка над своей головой, показывая захлопавшим в ладоши прихожанам новоиспеченного католика.
Мама! Вместо свечей на именинном пироге положи на него доску с гвоздями.
Гляжу во все глаза! Лед холодит кровь в жилах /Сердце и легкие! По вискам струится пот./ Тело мое застыло на месте. Все поле – сплошная могила. И все гробы стоят открытыми. В воздухе пыль, известка, кирпичная крошка. Когда же мой предсмертный крик разрешит мою жизнь? Скажи еще раз, я всегда с удовольствием слушаю, что если ты проживешь еще десять лет, тогда ты сможешь облизать все свои десять пальцев! Я работаю над языковой машиной, которая изгонит смерть из каждой клеточки собственного тела. Не пишите же на моих траурных лентах: «Твои братья», «Твои сестры», «Твои дяди и тети», – я ненавижу вас, мои дорогие! Напишите предложения из моих книг на моих траурных лентах, предложения, которые вы больше всего ненавидите. Мое сердце – шар, а все кегли моих костей в нужное время упадут. Если мне не удастся умереть и я вынужден буду жить вечно, то я буду три раза на дню – а в оставшееся время у меня вырастут черные ангельские крылья – пытаться покончить жизнь самоубийством. Раньше, чем прокукарекает петух, я занесу над собой славный нож без лезвия и рукоятки. Если мне суждено умереть в деревне, где я вырос, то надеюсь, что деревенский священник не станет служить над моим гробом заупокойную мессу. Если же я умру прежде своего отца-крестьянина, то он нарушит мою волю. Если подхоронят мое тело к могилам моих дедушки и бабушки, дядюшки и тетушки – ведь я хочу быть похоронен рядом с двумя тунисскими уличными мальчишками и двумя шляющимися по Риму бразильскими транссексуалами на кладбище Cimitro delie Fontanelle в Неаполе, – то пусть меня положат под лимонным деревом. Здесь даже кедр разлагается! Гнилые сосновые доски становятся мягкими. Даже дуб здесь не вечен. Тление достанет везде. Чего же стоит легкая ель. Оно разрушит узкие жилища мертвецов, как бы крепко они ни были сбиты и просмолены. Скульптору, который будет снимать с меня посмертную маску, придется приподнять мое обнаженное туловище, чтобы голова запрокинулась назад и чтобы образки Рафаэлевой «Madonna Sulla Seggiola», большое изображение которой и по сей день висит на стене моей бывшей детской в родительском доме, из-под подбородка выскользнули на мою пожелтевшую грудь, а зеваки, плакальщицы, мои подруги и друзья, пришедшие со мной проститься, могли бы унести по образку на память обо мне. Господи, помоги! Гробы открываются! Я вижу шевеление мертвых тел! Давно распухшие мертвецы стали двигать останками членов! Я вдруг понял, что убит обезоруженным смертью воинством. О зрелище, что перед очами моими туманом жарким стоит! Когда я скончаюсь, не клади меня ни в еловый гроб, ни в сосновый, не нужен мне также гроб из кедра или дуба. Похорони меня нагим, каким Господь меня охотней всего примет, заверни лишь в простыню, покрытую пятнами крови только что забитого ягненка, в которую его заворачивали перед тем, как отправить в холодильник. Я бы хотел, чтобы мой открытый рот заклеили пластырем телесного цвета либо набили его образками с изображениями высохших мертвых тел епископов и кардиналов из Коридора Священников катакомб капуцинов в Палермо, я должен быть похоронен как собака, не в своей родной земле, будто я родился в другом месте, я не хочу, чтобы ужасная земля моей родины попала мне в рот и мне пришлось есть эту черную могильную землю. Я почти ничего не вижу перед собой, кроме совершенно лишенных плоти скелетов: на лицах нет носов и губ, лбов и щек, на головах – кожи и ушей. Все остальное – исчезло. Редкие торчат лишь зубы. Это все еще детский страх, который я испытываю при виде служителя похоронного бюро, полиции или военного. Я всякий раз низко кланяюсь перед пустым катафалком, который пугает меня куда больше, чем катафалк, везущий гроб, заваленный цветами. Я часто представляю себе, что пустой катафалк медленно едет за мной, до тех пор пока я не пускаюсь бежать, забегаю на кладбище и прячусь там от него за могильным камнем. Как-то раз я прочел рассказ о том, что некий мужчина завещал хранить свое забальзамированное сердце в коробке для шитья своей матери, и мне вспомнилось, как я брал из подушечки для шитья моей матери иголки с разноцветными стеклянными наконечниками и втыкал в свои правую или левую руки, иногда загоняя вертикально под кожу более двадцати иголок. Я терпел боль, сжимая зубы и кулаки до тех пор, пока не начинала идти кровь. Елизавета Орлеанская, боясь быть похороненной заживо во время летаргического сна, распорядилась в своем завещании, чтобы перед погребением на ее стопах сделали два разреза. Ребенком я слышал во время проведения мирового чемпионата по фигурному катанию об элементе тодес, после которого русская пара упала бы на лед. Сидя перед телевизором, я напряженно ждал их смерти. Я надеялся, что они будут танцевать до тех пор, пока не умрут на льду, и был ужасно разочарован, увидев, как они после соревнований живые поднимаются на пьедестал почета, а затем стоят на нем с золотыми медалями на груди. Мне было десять лет, когда я в родительском доме прочитал роман Жана Поля Сартра «Игра закончена», действие которого происходит в царстве мертвых. Повествование затрагивало и мою собственную жизнь, так как я рос в царстве мертвых, ощущал его в своем теле и душе, но не так, как все другие деревенские крестьяне, юнцы и девицы, которые на танцах во время праздника, узнав, что в этот же день юноша покончил жизнь самоубийством, стали танцевать еще живее, радуясь тому, что пережили еще одного. Когда я в Риме представлял себе эти дни, перерезая вены на правой руке золоченой дароносицей с острым краем, мне пришло в голову, что пару лет назад в Берлине на вокзале поздно вечером я видел пожилого человека, протянувшего в окошко пачку писем и просившего у почтового служащего справку об оплате почтовых расходов. Когда он вытянул руку, рукав сполз так низко, что стал виден давно зарубцевавшийся шрам от разреза на руке, и я сразу подумал, что он, должно быть, тоже резал себе вены. Держал ли он руки в наполненной водой Иордана чаше для святой воды, когда кровь текла по его пальцам? Когда же я взглянул на отправителя письма, то прочел адрес какого-то то ли католического, то ли евангелического общества. В Клагенфурте я увидел молодого человека, идущего по улице с раной на шее и веревочной петлей. С ее помощью он пытался покончить жизнь самоубийством, но был спасен не то что в последний, но в самый последний момент. За этим молодым человеком в Клагенфурте, так же как и за похожим человеком в Берлине, я довольно долго шел следом, но так и не решился заговорить ни с тем, ни с другим. Когда плывший на берлинский Пфауэнинзель паром врезался в лодку, в которой спал мужчина, люди на пароме хотя и стали громко и вполне отчетливо кричать, чтобы он поворачивал, на их лицах было написано, что они с большим удовольствием посмотрели бы на то, как паром протаранил лодочку, а его стальной нос одновременно разбудил и убил бы спящего в ней человека. Той же ночью мне приснилось, что мой друг Адриан подошел к моему мертвому телу, приподнял лежащую на нем простыню, посмотрел мне в лицо, опознал меня и, быстро кивнув, снова положил простыню. Он приподнял бирку, привязанную к пальцу моей левой ноги, на которой были написаны мое имя, даты рождения и смерти, прочел их и, подозвав служителя морга, сказал ему, что дата моего рождения указана неправильно. Служитель, на лице которого была моя посмертная маска, подошел к Адриану, потянул его за левое ухо, да так сильно, что Адриан вынужден был встать на цыпочки. Служитель тихо зашипел ему в ухо сквозь стиснутые зубы: «Дата его рождения действительно указана неправильно?»
Когда ты стоишь передо мной и смотришь на меня, что знаешь ты о боли, которую испытываю я, и что я знаю о твоей? И когда я упаду перед тобой ниц и, плача, расскажу, ты узнаешь обо мне больше, чем об аде, о котором тебе рассказывают, что там жарко и ужасно. Хотя бы поэтому мы, люди, должны относиться друг к другу так почтительно, так осторожно и с такой любовью, как будто стоим у врат ада. Часто Адриан не находил в Клагенфурте прибежища или был так сильно погружен в вереницу своих мыслей, что даже все-таки найдя прибежище, не мог в нем оставаться. И потому больше и не искал его, но, стремительно и безмолвно плача и крича в душе, охваченный безумием, кругами носился по улицам города, словно дрессированный хомяк в своем колесе. Все, что он видел во время этих своих так называемых прогулок, он рассматривал исключительно с точки зрения полезности этого для самоубийства. Высотные здания и балконы в Клагенфурте существовали только для того, чтобы с них спрыгнуть, острые наконечники садовых оград – для того, чтобы проткнуть себя ими, грузовики – чтобы броситься под них, железнодорожные рельсы – чтобы в нужный момент положить на них голову веревки колоколов – чтобы, повесившись на них, раскачиваться, вызывая похоронный звон. Осколки стекла постоянно резали его вены. Проходя под ветвями деревьев, он постоянно задевал головой пальцы ног своего висящего трупа. Идя вдоль Лендканала, он раздумывал: «Какой будет прекрасный вид открываться перед прохожими, если я однажды утром повешусь на веревке, посреди каменного моста и буду раскачиваться над желто-зеленой водой Лендканала». Почти для всех в Клагенфурте он был братом брата или сестры, сыном священника или профессорши итальянского или в окрестных магазинах – внуком госпожи Миттерер, но там по крайней мере его звали его собственным именем. Из трех гимназий, существовавших в Клагенфурте, он ходил в три и в каждой из этих школ либо учились его брат и сестра, либо преподавали его родители. Как самый младший ребенок в семье, он никогда не носил новой одежды, а донашивал одежду за старшими. С одного места на другое кочевал сундук, набитый вещами так называемых богатых друзей из Америки. Эта американская семья носила фамилию Росс, и на большинстве вещей были метки. Он носил пуловеры, рубашки, штаны, на которых чаще всего стояли имена Николаса и Марианны Росс. После того как эту одежду поносили американские дети, а затем дети священника, и если после этого она еще не до конца пришла в негодность, ее отдавали детям крестьянина, на землях которого у родителей был домик в горах, где они проводили выходные. Когда они ехали из Клагенфурта в этот домик в. горах и сперва заезжали в Файстритц, его мать каждый раз начинала высматривать дом, хотя все ехавшие в машине прекрасно знали, что он не виден из долины. То, что она искала глазами дом, было, по его словам, искренним желанием его матери показать свою радость, и она всегда повторяла при этом: «Какое счастье для меня спокойно отдохнуть в горах в кругу своей семьи!» В такие дни она особенно старалась все устроить в домике наилучшим образом. Она пыталась не допустить там возникновения конфликтов, они должны были оставаться в городе. В Клагенфурте ребенком он ходил от гостиницы к гостинице, гремя кружкой для пожертвований, и выкрикивал: «Пожертвуйте Красному Кресту!», «Помогите Красному Кресту!», и пожилой человек сунул ему деньги, сказав: «Это для тебя, мой маленький!», но ребенок выходил из гостиницы и бросал деньги в кружку для пожертвований Красного Креста. Он с успехом собирал деньги для Красного Креста, заняв второе место, и его фотография появилась в провинциальной газете, она была второй слева, он узнал себя и засмеялся, а в заметке под фотографией было его имя. Больная мать поцеловала его и вырезала заметку из газеты. Однажды в детстве он не захотел поцеловать мать, и она сказала: «Ты же поцелуешь свою мать!» Дома он ложился спать раньше брата, чтобы спокойно помастурбировать. Если же братья шли спать одновременно или кто-то находился в соседней комнате, он не решался прикасаться к своему члену и оттягивать вверх-вниз крайнюю плоть. За стеной спальни стоял письменный стол матери и через стену был слышен стук ее деревянных башмаков, скрип пера ее чернильной ручки, ее кашель и вздохи. Когда его брат входил в спальню, он прекращал онанировать, задерживал дыхание и боялся, что брат почувствует запах свежего пота. Он притворялся спящим и старался и вправду заснуть, чтобы не слышать, как онанирует его брат. На Рождество он сидел рядом с матерью перед серебристым пюпитром и играл на ее блок-флейте. Воскресным утром он просыпался с первым звоном церковных колоколов, но вставал только со звоном ко второй заутрене. Чтобы позлить мать, он вывешивал на улицу свое одеяло в то время как люди выходили с заутрене из ворот стоящей напротив церкви. «Если ты – сын священника и не ходишь в церковь, не нужно оповещать об этом всю округу, – говорила мать, – все это отражается на нас, нам приходится оправдываться!» Незадолго до своей смерти его дедушка купил бутылку шнапса, которая звенела, когда ее наклоняли. Когда после похорон все собрались в гостиной, священник взял эту бутылку. Раздался звон, все вокруг удивленно рассмеялись, а бабушка, вдова, заплакала: «Если бы он знал как много людей придет на его похороны, он бы обрадовался!» Он рассказывал, что они с сестрой не удержались от смеха, когда воткнутая в кучу земли лопата стала медленно опускаться на молящегося священника. Когда он какое-то время жил у меня, его мать говорила: «Ты живешь за чужой счет, мне не по себе от этого. А украденные деньги ты мне так и не возместил! Мне трудно выразить, как я разочарована!» Только когда мать поняла, что он ее обокрал, вновь ощутил привычное чувство вины перед нею за ее сердечные, нервные болезни и ревматизм, то чувство вины, которое она всегда умела ему внушить. Это чувство, по словам Адриана, она выражала, жалуясь, что либо он убьет ее, либо она убьет его. Когда шестнадцатилетний Адриан сбежал со своим другом в Грецию, где оба были на грани самоубийства, его мать в тысячах километрах от него сетовала, помимо всего прочего, и на то, что он прихватил с собой на Крит ее лучший кухонный нож. Рассказывал ли я тебе, как он однажды в доме моих родителей играл в чепуху? Требования любви и ненависти, телеграммы, в которых говорится о чувствах, о которых нужно догадаться, предостережения, намеки, проявления жизни, поручения, которым нельзя противиться. Вероятно, можно было не обратить на них внимания, но их нужно было все же прочитать. Во время еды его мать пристально смотрела на него и забывала про свой суп. Иногда он выходил на балкон и проводил шеей по бельевой веревке. В семнадцать лет, в Вене, домашний врач оперировал его по поводу фимозы и страшно искромсал. Адриан рассказывал, что из швов торчали нитки, как концы струн на гитарном грифе. Широко расставив ноги и держа член в руке, чтобы раны на члене не терлись о бедра, он ковылял в сортир. Если во сне у него была эрекция, то он просыпался от мучительной боли. Ночью рана на члене открывалась, и по мошонке и бедрам стекали черная кровь и гной. Он в изобилии глотал пенициллин и болеутоляющие таблетки – могильные камешки, как он их называл. Его член кровоточил, посинел, почернел, опух, и кровавые нитки ночами причиняли резкую боль. Когда во время получасовой операции, которая проводилась без наркоза, врач спросил у Адриана, кто его отец, и тот ответил: «Священник!», врач громко засмеялся и никак не мог успокоиться, непрестанно сопя, он произнес: «Ты это сказал специально!» А как-то раз зимой он один пошел в деревенский домик своих родителей, чтобы без помех почитать там «Реку без берегов» Ганса Генни Янна и пописать, а уходя, забыл закрыть воду, из-за чего замерзла труба, отец сказал: «Все эти неприятности!» и это своеобразное словечко «неприятности» стало обозначением все, что я причинил своим родителям, и все, что они от меня в конце концов ожидали, было не чем иным, как неприятностями.