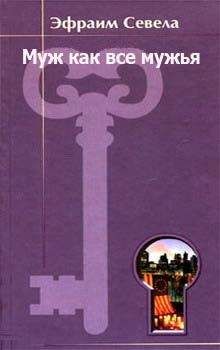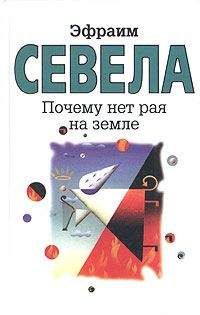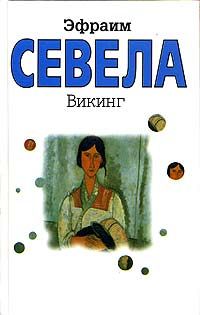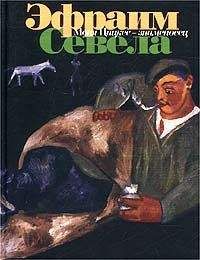Энтони Берджесс - Эндерби снаружи
— Я, собственно, имел в виду собственно выпивку. — Впрочем, Эндерби не хотел показаться невежливым; похоже к тому же, что этот мужчина занимается некой литературой, начиная теперь корректировать лист чернильным фломастером; типа собрата-писателя. — Хотя, думаю, понял, о чем вы говорите.
— Хорошо, — сказал мужчина и забормотал наклеенное и написанное, нечто вроде: — Баланс медленной мастурбации платежных вопросов опаловым трутом порождает замечание по вопросу вторжения зеленого осла и отсрочки фантомов. — И встряхнул головой. — По-моему, ритм ни к черту.
— Собственно, — продолжал Эндерби, — я ищу здешнего официанта. По имени, кажется, Гомес.
Из-за занавески из пластиковых полос разнообразных основных цветов легкой походкой денди вышел мужчина в зеленоватой рубашке, никогда, — в любом случае, на протяжении долгого времени — не снимавшейся и поэтому лоснившейся, как глазурь, с тощими голыми ногами, усыпанными перчинками крошечных дырочек, словно изъеденными жуком-точильщиком. Лицо изношено до костей, волосы грязные, в колтунах. Он известил мужчину с ножницами:
— Вроде бы уже связался по горячей линии.
— Что говорит?
— Муха записывает. Можно узнать, вам кого? — обратился он потом к Эндерби.
— По-моему, насчет Гомеса что-то, — подсказал гробовщик.
— Позже. — Мужчина в глазурованной рубашке поболтал пальцами в воздухе, как в воде. — Нету его, будет un росо mas tarde[103]. — Теперь пианист разрабатывал какие-то старомодные высокие аккорды скрябинской школы. — Сдурел, — заметил болтавший пальцами мужчина.
— Я бы выпил, — сказал Эндерби, — если можно.
— Британец, — кивнул гробовщик. — Так я и думал. Проклятый Богом город кишит британцами, точно вшами. Ползут сюда писать про чай с мисс Митфорд, про розовые сады в уединенном домике приходского священника, всякую белиберду.
— Только не я. — Эндерби издал некий звук, сразу сообразив, что в дешевых романах его бы называли веселым смешком. Значит, номер у него не вышел. — Выпью «Кровавую Мэри», то есть если найдется. — И с бряцанием вытащил несколько дирхемов. Томатный сок питательный; он нуждается в подкреплении.
— «Sangre de María»[104], — пожал плечами мужчина в грязной рубахе, видимо хозяин заведения, направляясь за стойку бара. Эндерби пошел влезать на табурет.
— Барочный стиль, в высшей степени, — заметил он. — Наверно, здесь этот коктейль все так называют. Конечно, не знают английской истории, — испанцы, я имею в виду, — превратили ее в какую-то причуду Крэшо[105], хотя, собственно, стиль Крэшо скроен, как я слышал, по испанскому образцу. Или возьмем статую святой Терезы. По-моему, это она стрелой проткнута. Только это же, разумеется, Дева Мария с кровоточащим сердцем. Дева, понимаете: кровь. Впрочем, одно и то же. Профессора Эмпсона очень интересовала та самая строчка Крэшо, знаете: «Длинный сосок его налит кровью. Значит, мать сына сосала с любовью». Две строчки, я имею в виду. Барокко, в любом случае. — Все, кто не пребывал в наркотическом трансе, смотрели на Эндерби. Он недоумевал, почему так трепещут нервы; надо осторожней, иначе нечаянно можно все выложить. — А ваш Гомес, — добавил он, — по достоверным, полученным мною сведениям, специалист по испанской поэзии.
— Гомес, — объявил гробовщик, — специалист исключительно по причудам собственной прямой кишки.
Мужчина у школьной доски написал дрожащей рукой Всему свой череп. Беловолосый читатель очень серьезно сказал:
— А вот это, по-моему, не дерьмо. Слушайте. — И прочел:
Общество одиноких детей —
Стиляг, хиппи, битников и хулиганов,
Нудистов, пижонов и рокеров, —
Прислушайся к психоделическим откровениям
Свами[106], йогов, йогинь, дзен-буддистов,
Америндейских вождей под пейотом[107].
Восславь космос духа, стряхни с плотской машины
Условно-рефлективный гипноз,
В который ее погрузили Посланцы…
— Но ведь, — неосмотрительно вставил Эндерби, с улыбкой приплясывая с кровавой выпивкой в руке, — стиляг и пижонов у нас больше нет. — В конце концов, для чего-то же он читал «Дейли миррор». — Знаете, опасно пытаться создавать поэзию из эфемерности. Если вы меня извините, на мой взгляд, весьма старомодно звучит. Правда, фактически непонятно, настоящая ли это поэзия. Назад, — улыбнулся он, — к старым временам верлибра. Знаете, люди выкидывают массу фокусов. Перекладывают в стансы каталоги семян. О, очень многие представители soi-disant avant-garde[108] заблуждаются.
Послышалось тихое сердитое ворчание, в том числе, кажется, от мужчины, якобы пребывавшего в трансе. Беловолосый читатель как бы успокаивался с помощью неглубокого ритмичного дыхания. Потом сказал:
— Ладно, дерьмо. Давай твое послушаем.
— Как? Мое? Что вы хотите сказать?.. — Все ждали.
— Тебе вся бодяга известна, — объяснил гробовщик. — Без конца рассуждаешь, как только пришел. Кстати, кто тебя сюда звал?
— Это ведь бар, правда? — сказал Эндерби. — Не частный дом, я имею в виду. Кроме того, дело в Гомесе.
— К черту Гомеса. Выкладывай свое.
Атмосфера сложилась враждебная. Хозяин за стойкой с ухмылкой болтал в воздухе пальцами. Пианист в шестой — восьмой раз играл что-то нарочито глупое.
— Ну, собственно, — начал Эндерби, — я не готовился, когда шел. Впрочем, работаю кое над чем в форме оды Горация. Не слишком далеко продвинулся, всего пара стансов. Вам, по-моему, вряд ли захочется слушать. — Чувствовалось щекочущее волосками сомнение. После всей дребедени про свами с космосом духа. Да, сонет. Да, ода Горация. Может быть, он не совсем современный поэт. Однажды критик написал: «Пристрастие Эндерби к форме сонета доказывает, что истинное его место в тридцатых годах». Ему не особенно нравится молодежь, не очень хочется принимать наркотики. Он предположительно убил основополагающий голос новой эпохи. Но тот самый голос не побрезговал косноязычно промямлить произведения Эндерби и стал за это членом Королевского литературного общества. И Эндерби отважно прочел:
Зоркий глаз горит огнем,
Наблюдает каждым днем
За опасным ростом,
Беззаконным просто.
Лишь младенца восхищает
Пламя, что в печи пылает,
Разрывая черный
Континуум покорный.
Почка взбухнет, лопнет, треснет,
Рак ползет на волю, —
Знать, ему там было тесно, —
На чужое поле.
Кто-то прыснул, выйдя из транса.
— Понимаю, последний куплет, — предупредил трепещущий Эндерби, — нуждается в небольшом продолжении, но, думаю, общая мысль вам понятна. — В смятении взмахнул «Кровавой Мэри», протянул запятнанный стакан (брызги убитого маленького животного на переднем стекле) за другой порцией. Как-то в детстве Эндерби заснул на империале последнего трамвая и проснулся в трамвайном депо. Опозоренный, он заметил, как мужчина в форме со спокойным удивлением на него смотрит, отдавая надлежащую дань дурацкому поступку. Кажется, на него теперь так же смотрят.
— Я стою за форму и плотность, — сказал он. — Модифицированная традиция семнадцатого века. Когда придет Гомес? — Гробовщик перестал резать и клеить, помотал головой с идиотской ухмылкой. Стриженый беловолосый юноша спрятал усмешку в новом тоненьком томике. Громче всех критиковали пребывавшие в трансе, из космоса их душ рвалось громкое прысканье. — Ну, — сказал Эндерби, — начиная сердиться, — а как насчет чертова плагиата распроклятого Йода Крузи?
Некий мужчина вышел, прихрамывая, из-за школьной доски (на которой теперь было очень вульгарно нацарапано Мая страна всиленная) и сказал:
— Я тебе отвечу, приятель. — Абсолютно лысый, но пышно бородатый, он говорил с акцентом, который Эндерби до тех пор ассоциировал только с ковбойскими фильмами по телевизору. — Чистая умозрительность. По-моему. Новые рамки сознания. Не стихи, как таковые, а его взгляд на них. Ну, как будто смотришь говенные красивые картинки с викторианцами, — кадр в кадре. Называется Процесс, старик.
— Мне бы очень хотелось увидеть… — У Эндерби обострялся насморк. Есть ли там набросок сонета про Сатану. И, есть он там или нет, удастся ли держать себя в руках в борьбе с обильно награжденным вором с безобразной ухмылкой?
— С любой страницы, — предложил лысый бородатый мужчина. — В сортирной библиотеке. — И указал за занавеску из многоцветных пластиковых полос пальцем, казавшимся наполовину откушенным; поистине любезный мужчина. — Что касается плагиата, все кому-нибудь принадлежит. Называется Опыт, старик. — И, хромая, вернулся за школьную доску, где теперь было написано Уксус сочится в хваленые сальные железы.