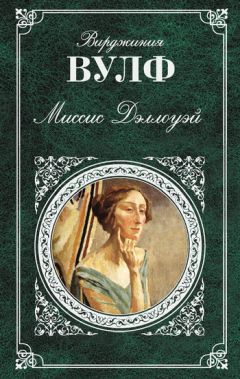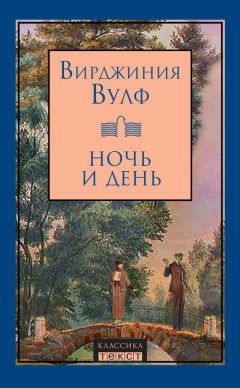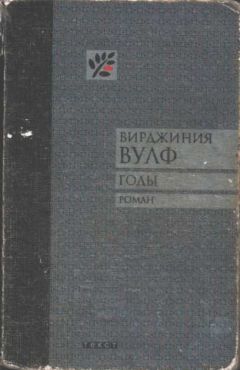Давид Фонкинос - Леннон
Но в первую очередь мы оставались художниками. Йоко снимала кино и устраивала выставки. Я сочинял музыку. В 1971-м вышел мой альбом Imagine. Йоко часто упрекали в том, что по ее вине распались «Битлз», но тогда следовало бы сказать ей спасибо за все наши сольные альбомы. Искусство стало нашим прибежищем. Да, многие поддерживали нас в нашей борьбе, но вражды и насмешек тоже хватало. Как будто рок-звезда не имеет права заниматься делами, волнующими весь мир. Это было время страдания, и я прятался за Йоко, как за крепостной стеной. Ее тело, материнское тело, было той призмой, которая преломляла и смягчала окружающую жестокость. Меня раздирали противоречивые чувства: с одной стороны, ощущение бесцельности существования, а с другой — уверенность, что мы делаем нужное дело. Мир вокруг пришел в движение. Почему в нем не должно найтись места и для нас? И плевать на тех, кто видит в нас только обкуренных утопистов. Хотя нет, не плевать. Мне, наверное, никогда не понять, почему два человеческих существа, лежащих в украшенной цветами постели, способны вызвать такую бурю ненависти.
Все это не улучшало наше внутреннее состояние. Я по-прежнему искал способ обрести душевный покой. И решил стать последователем учения Артура Янова. Это был еще один после Махариши человек, с которым я связывал свои надежды. Я прочитал его книгу о первичном крике, возможно привлеченный названием. Первичный крик — эти слова сразу пронзили меня, вошли в мою плоть. Янов разослал свою книгу всем знаменитостям, предположив, что многие из них страдают от депрессии. И он был прав: слава и депрессия — синонимы. Вот так мы о нем и узнали. Позвонили ему, и он приехал к нам в Англию. Первая встреча меня сильно удивила. Я ожидал увидеть очкастого ботаника, а он оказался красивым мужиком в кожаной куртке. Очень сексапильным, как некоторые нестареющие актеры. В конце концов мы согласились поехать к нему в Лос-Анджелес. Поначалу, правда, поцапались из-за его слишком уж деловой хватки. Он хотел заснять наши сеансы на камеру, чтобы потом огрести кучу бабла, но я не собирался подставляться — нашел дурака. Но, за исключением этого, недели, проведенные там, оказались потрясающими.
Его метод заключался в лобовой атаке на невроз. На сеансах мы чего только не насмотрелись. Некоторые пациенты лежали, скрючившись в позе зародыша, другие сосали палец. Каждый должен был отыскать в себе младенца. Вернуться в детство при помощи крика. Мы выпускали на волю все то, что долгие годы держали в себе. Вопили и орали часами, что лично на меня действовало благотворно. Этот человек оказал на меня сильное влияние. В том числе и в музыкальном плане. Я даже использовал крик в нескольких песнях, например в песне Mother, где наконец выразил свою скорбь по умершей матери. С воплями из меня выходила боль. Ярость и сердце сообщались между собой. И мне стало лучше. Я слушал советы Янова. Впервые в жизни я мог с кем-то обсудить те противоречивые чувства, которые испытывал к своему сыну Джулиану. Он уговаривал меня возобновить с ним отношения. Потом что-то случилось, и мы уехали. Йоко там было плохо. Может, ей не нравилось, что я слишком близко сошелся с доктором. Наша исключительность не допускала чужаков.
После истории с лечением мы окончательно покинули Англию и перебрались в Нью-Йорк. Я обожал Штаты, но и побаивался этой страны. Из памяти еще не стерся психоз, поднятый здесь из-за моих высказываний насчет Иисуса. Но от Англии просто мутило. В Америке мы пользовались гораздо большим уважением. Первые дни в Нью-Йорке смахивали на сказку. Когда мы шли по улице, на нас, конечно, оглядывались, но мы не ощущали на себе тяжести постоянного осуждения. Это был потрясающий период. Мы чувствовали вибрацию города. Прекрасного города. Я познакомился со многими людьми, которыми восхищался, например с Энди Уорхолом. Ну хоть я так и говорю, но на самом деле это он мной восхищался. Я спел с Заппой. Он мне нравился, а над его пародией на Sgt. Pepper[15] я ужасно хохотал. При первой же встрече он спросил, не хочу ли я принять участие в его концерте. Я не раздумывая согласился. Такой он был, Нью-Йорк. Здесь все казалось проще. И все важное происходило в этом городе.
И авангард тоже был тут. Йоко захотела устроить большую выставку, и мы энергично принялись за дело. Как и все творческие люди, она обладала чрезмерным эго. Однако могла повесить у входа такую надпись: «Эта экспозиция — плод трудов бездарной художницы, отчаянно нуждающейся в общении». Мне всегда нравился ее юмор. Выставка прошла с успехом, но Йоко опять — как везде и всегда — чувствовала, что публика ее не полюбила. Йоко очень от этого страдала. Иногда она спрашивала меня: «Джон! Скажи, Джон, почему люди меня не любят?» Один приятель объяснил ей, что это происходит потому, что у нее всегда такой вид, будто она знает больше всех на свете. «Но это же правда, — ответила она. — Я и в самом деле знаю больше всех на свете». В этом вся Йоко.
В Америке ширились протестные движения. Мы хотели приносить пользу, участвуя во всевозможных акциях. Появление на каком-нибудь мероприятии Джона и Йоко всегда было событием. Мы поддерживали феминисток, «Черных пантер» и радикальных активистов, таких как Джерри Рубин. Наша тогдашняя ошибка состояла в том, что нас прибило к самым непримиримым, к тем, кто был одержим революцией. Мы излагали свои взгляды предельно ясно. Мы были стопроцентными пацифистами. Самым ярким событием стал большой концерт в поддержку Джона Синклера. Его поймали с двумя косяками и приговорили к десяти годам тюрьмы. Судя по всему, администрация Никсона решила устроить ему показательную порку. Послать сигнал его единомышленникам. Приближались выборы, и обстановка накалилась. Мне представлялось безумием, чтобы люди захотели избрать Никсона на второй срок. Четырьмя годами раньше, в шестьдесят восьмом, он шел на выборы, обещая покончить с войной, и клялся, что у него уже есть некий секретный план. Ему поверили. Но время шло, а кошмар во Вьетнаме все продолжался. Война уже принесла страшные бедствия, а секретный план так и оставался секретным. Чтобы демократы притихли, он собирался развернуть террор, но не тут-то было. Мы были готовы бороться. Я написал песню в защиту Синклера. Концерт прошел с большим успехом, и правительству пришлось Синклера освободить. Это была настоящая политическая победа. И доказательство тому, что протест может принести реальный результат.
Тогда же начались мои неприятности. Из-за своей активности я попал в первые ряды врагов республиканцев. С учетом популярности было очевидно, что моя деятельность заставит многих избирателей изменить мнение. Я откровенно говорил о Никсоне все, что я о нем думал, а думал я о нем очень плохо. И тем самым поставил себя в довольно сложное положение. Я же не был американским гражданином. И эти сволочи, чтобы иметь основания меня выдворить, раскопали старую историю с моим арестом в Англии за употребление наркотиков. Меня хотели вышвырнуть из страны, где мне было так хорошо. Я ввязался в юридические баталии, которым предстояло длиться годы и которые стоили мне нескольких миллионов долларов. Но у меня был мощный мотив. Я не собирался сдаваться. Если они хотят меня выгнать, то им придется тащить меня за яйца. Они увидели, с каким ожесточением я пускаю в ход все средства, и решили меня запугать. Я пережил настоящий ад. За мной установили слежку. Причем следили не скрываясь, нарочно лезли мне на глаза. Давали понять, что у меня не будет ни минуты покоя. У меня началась паранойя. Они хотели довести меня до ручки, измотать. И у них получилось. Я стал злобным и раздражительным. Как всякий затравленный зверь.
Я ждал президентских выборов, трясясь от страха. Считал дни. Моим единственным спасением было бы поражение Никсона. Как и единственной надеждой на лучший мир. Не знаю, как я вынес тот ноябрь семьдесят второго. В вечер выборов мы были в Лос-Анджелесе, у Рубина. Я напился. Результаты меня просто сразили. Мы с Йоко взглянули друг другу в глаза. Что-то рушилось. Я понял, что меня выдворят. Надо было продолжать борьбу, но сил не осталось. Меня как будто сносило течением.
Сеанс семнадцатый
Мы с Йоко жили в тоталитарном мире абсолютной любви. Но даже сумасшедшее счастье не помогло мне избавиться от отвращения к себе. Меня по-прежнему преследовали мои вечные демоны. Чего я только не перепробовал, чтобы обрести душевный покой, — все напрасно. Мне становилось только хуже. Я так много пил, что часто впадал в агрессию. Преждевременная трагическая смерть многих и многих рок-звезд причиняла мне жестокие страдания. Меня не покидало ощущение, что я не живу, а отбываю пожизненное заключение.
Как-то на вечеринке я заметил одну блондинку. Вернее сказать, заметил, что она на меня смотрит. Ну это я так говорю — блондинку, она вполне могла быть серо-буро-малиновой. Все мои воспоминания о никсоновских временах черно-белые. В ее взгляде я прочел то, что успел слишком хорошо изучить в прошлом. Она относилась к тому типу телок, с которыми можно трахаться, не тратя времени на знакомство. В последние годы я отдалился от женщин и чувствовал, что мне начинает этого не хватать. Я подошел к ней и стал ее лапать. Здороваться руками. Йоко сидела рядом, в паре метров. Она ничего не сказала. Просто сидела и молча терпела унижение. Потом вдруг резко поднялась. И ушла, не удостоив меня даже взглядом. Я должен был побежать за ней, догнать ее в темноте, но вместо этого я потащил блондинку в соседнюю комнату. Что было потом, помню плохо. Наверно, я проснулся наутро — или век спустя? Я плохо ориентировался во времени. Надо было возвращаться к Йоко — жалким, сгорающим со стыда в своем кобелином ничтожестве. Как всегда, решать, что будет с нами дальше, предстояло ей. Если я хочу все разрушить, шляться по блондинкам и даже умереть, она не станет мне мешать. Вернет мне свободу. Именно так она и сказала: возвращаю тебе свободу. Но в устах Йоко эти слова приобретали огромное значение. Их истинный смысл состоял в том, что она бросает меня наедине с моим одиночеством. Она предложила мне остаться на уикенд в Калифорнии и попытаться выйти из своего состояния. А потом видно будет. Этот уикенд продлился четырнадцать месяцев.