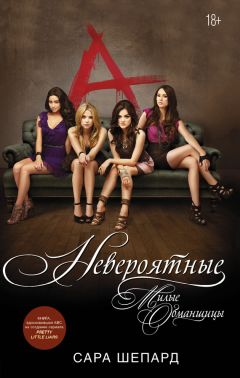Владимир Рекшан - Кайф полный
Впрочем, о дадзыбао-обоях. Мне удалось умыкнуть ту их часть, что касалась «Петербурга». Для того мы и собрались через пятнадцать лет, такого сам не придумаешь, а ведь как-то надо заканчивать повесть. Откликов оказалось достаточно, и не очень обидных, а сверху резким почерком чья-то восторженная рука начертала: «Бэби, я обторчался вчерняк!»
Вот она — жирная черта итогов, дебет и кредит рок-судьбы. «Бэби, я обторчался вчерняк!» На этом, собственно, можно и ставить точку. Но я все-таки поставлю многоточие…
UNDERTURE I. В ПОЛНЫЙ РОСТ
Весна все-таки вступила в май и на марсианской почве дворового колодца, там, где двумя скамейками и полоской земли подразумевался сквер, поднялся субтильный пушок травы. Уже кисловатый запах помойки предсказывал близкое лето, кошки скакали по двору, а гиперсексуальные юноши в сквере бренчали на гитарах до полуночи.
Мы сидели с Олежкой в комнате, не зажигая свет, и молчали, поскольку давно сказали все, что собирались сказать друг другу, и поэтому даже часть из того, чего говорить не стоило. Молчание наше было, однако, относительным — ведь Олежка повторял каждые пять минут:
— Может оттянемся, Саша, а? Что так молчать? Я бы оттянулся, — а я отвечал:
— Какая оттяжка! Ночь, Олежка, уже ночь.
Но пробили куранты, затихла гитара, и я согласился:
— Ты знаешь тут кого-нибудь? Где тут у вас бутлеры?
— Да на «фонарях», Саша, круглые сутки и в полный рост.
Мы прошли по коридору мимо соседской двери, вышли на лестницу и вызвали лифт. Тот гулко пополз вверх, остановился. Кабина освещалась яркой лампочкой, а над клавишей вызова гвоздем некто нацарапал фаллический символ петербургских парадных — эта народная графика въелась мне в мозг с детства.
Мы вышли в ночь, и Олежка сказал:
— До исполкома дойдем — и налево по Майорова. Пять минут хода, всех-то дел.
— Думаешь, получится?
— Эк ты даешь — это же «фонари»!
Темная махина исполкомовского дворца глядела на пустынную площадь, на скачущего от него к Исаакию императора Николая, на гостиницу «Астория», возле которой собирали урожай валютные девки. Дворец охраняли двое сержантов. Они закурили, лениво оценили нас и забыли. Олежка кивнул в сторону «Астории» и сказал:
— В чем вопрос тасовки — не понимаю. Нас давно купили с потрохами. Лучшие бабы — и те не нам. Лес, рыба, Большой театр. — Он стал на ходу зажимать пальцы. — Все уже продано в полный рост.
— Сколько можно говорить об одном и том же?
— Сколько! Хоть поговорить-то!
Мы вышли на Фонарный переулок, и Олежка велел подождать возле бани, а сам быстро пошел туда, где на соседнем перекрестке маячили тени.
Я ждал долго, но вот из темноты появилась белая куртка Олежки, и он уже говорит мне полушепотом и чешет, чешет запястья, шею, подбородок:
— Есть три сухого по четыре. А у нас сколько?
— Кончай чесаться, не в кайф, — говорю я.
— Это же дерматоз такой. От нервов! — обижается Олежка.
— А ты не волнуйся — у меня десять рублей есть.
Он добавляет два рубля, возвращается в темноту на перекресток, и я опять его долго жду, а после:
— Все в порядке, Саша, это же «фонари».
— То-то и видно, что такой мрак.
Мимо императора, мимо «Астории», мимо жизни, неподвластной исполкому, мимо изнывающих, застоявшихся сержантов идем к Олежкиному дому, парадной, лифту с фаллической графикой… Возле лифта в заплеванном аппендиксе сплелась в объятиях парочка.
— Видал, как он ее мацал, а! — говорит Олежка, пока мы поднимаемся, и начинает чесаться.
— Да не чешись ты! И так весь коростой покрылся, -говорю я.
Мы проходим в комнату, и Олежка зажигает свет. У него полупустая комната в двадцать метров. Над раздвижным диваном две большие фотографии детей, с которыми не дает ему видеться прошедшая жена. На столе сахарница и засохший хлеб. Олежка жадно срывает пробку, а я подвигаю фужер и рюмку. Пить не хочется, но и домой не хочется, не хочется ничего.
— Столовое, — говорит Олежка, — рупь семьдесят.
— Дрянь, — говорю я. — Его с мясом надо.
— Мя-со, — протягивает он. — На «фонарях» в винном всегда и бормотуха есть. Они полмашины скупят, а ночью оттягивают всех. В полный рост.
— Рядом с исполкомом.
— Кому Указ не указ, тому толкаться у касс. Или у бут-леров без очереди. Как на рынке — надбавка за качество ослуживания. А утром на опохмелку и стаканами продают.
— Понятно. Тут зачешешься.
Он и зачесался. Чешется, чешется снова, не обижается теперь, а говорит вдруг:
— Плевать на все. Я еще, может, и гитару пропью. Так пропью, чтоб не осталось ничего.
— А Корзинин как же?
— А что Корзинин? Нормально. Задолбали все.
Он срывает пробку с другой бутылки.
— Если так будешь пропиваться, так это у меня ничего не останется.
— Да брось ты жаться, — говорит Олежка.
Пить не хочется, но уже нравится. Не хочется и лень глотать кислятину, но уже приятно понимать, как вино, сгорая в тебе, оборачивается теплом и смягчает мысли. И уже хочется говорить., все равно о чем.
— А соседи как?
— Тихие соседи. Ребенок иногда плачет, а так — нормально, на мозги не давят. — А когда выпьешь?
— Нет, не давят. Он же сам того, ширяется, а она — кет, никогда, точно знаю.
Словно подтверждая сказанное, за стеной тихо всхлипнул ребенок, после по коридору кто-то прошел на кухню, полилась вода из крана, с шумом разбиваясь о раковину. Затем все стихло.
— Ты сам видел?
— «Машину» видел случайно. Глаза его видел… Что ж, я и не разбираюсь! Он неделю поширяется, на пьянке переломается, а после держится несколько месяцев. По-моему, должен скоро начать, а может, и начал.
Олежка кривит усмешкой губы, а вообще-то, черты лица у него правильные. Это теперь оно у него вечно в пятнах, вечно изодранное на висках ногтями, волосы же редкие, белесые, торчат куцым ежиком.
Олежка пытается включить магнитофон, который стоит прямо на столе полуразобранный, долго вертит ручки, стучит кулаком по корпусу. В нем что-то начинает вращаться, но главное отказывает, а Олежка чешется и повторяет:
— Счас запашет. Под Боба Марли оттянемся. Ты только послушай, как он вторую долю качает. Вторую долю качает — и всех дел.
— Точно. Оттянемся. Я так уже начинаю, — сказал я и пошел в туалет.
Я долго тыкался в клавиши — свет зажигался то в ванной, то на кухне, то в коридоре, наконец мне повезло. Стены вокруг унитаза и бачок были заклеены рекламными вырезками, которые предлагали белозубую жизнь и «Кэмел», белозубых красавиц в ажурных трусах и пиво из шведских пивоварен, и все то, к чему я почти прикоснулся, и то, к чему ка морскую милю не подпустят никогда Олежку…
Было так:
моросит и я иду перекинув через плечо тугую сумку с пропотевшим спортивным костюмом боксерскими перчатками мокрыми трусами и полотенцем иду по бульвару имени революционного демократа Чернышевского к метро и у меня еще есть шикарный шанс почти последний в двадцать семь лет он у меня есть через неделю и на углу бульвара с улицей имени великого композитора Чайковского как-то вываливает контора такая сомнительная хотя мне-то что я и с левой кладу в сотую секунду без всякого гипноза крепкого кандидата а то и мастера но мне — Дай закурить — говорят под правую руку и я — Не курю — отвечаю и у меня более не спрашивают ничего только вполне тяжелым из-за спины в самую переносицу хотя нос ломаный-переломаный но не тяжелым же предметом тут же я снопом и'кровь как водопроводная вода дешевая эти же по ребрам так лениво ногами и помню первая мысль — Нет здесь никакой логики — и вторая — Она-то и есть главная логика когда ее нет никакой — и третья — Главное выкатиться из-под ног и тогда будет спарринг — И выкатываюсь вскакиваю в крови весь — Теперь финиш вам мальчики — говорю хотя они похоже не мальчики а я мйльчик натуральный давший перепахать физию за неделю до главного шанса но ничего поехало ну и водит меня как пьяного но раз пять провел им больно и три пропустил небольно поскольку мне уже не больно до сих пор ничего и то верно мальчики одно дело попинать беззлобно вроде футбольного шяча другое дело получить больно они и побежали от революционного демократа по великому композитору да обидно же остаться с перепаханной физией и идти больным куда-то в кровище тогда я побежал за.ними оставив сумку и шанс главный так хотел бы одного хотя бы войти в клинч и вцепиться «боксером» и боксером и сдаться каким-нибудь прохожим милицейским чинам неизвестно откуда — это пришло в голову но выбрал одного и за ним как самонаводящая ракета а тот с воем ужаса убегает бежит залетает ер двор и там ловлю его в замкнутом пространстве и уже думаю сотрясенным своим мозгом плюнуть и на клинч и на милицейских чинов спасибо акустике петербургских дворов слышу сзади набегают остальные если бы не сотрясенный мозг они уже для меня в тумане и тут он понимает что начинается убийство и командует сделать им последний раз больно и не упасть пока»они делают не больно тогда рывком из последних сил на улицу прочь из двора это не улица, а картина Айвазовского там в картине на суденышке я в шторм палуба уходит из-под ног потому и набираю короткий номер в будке и вызываю скорую…