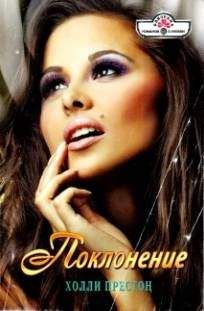Иван Зорин - Дом
«И род приходит, и род уходит, − закинув ногу на ногу, думал Нестор. — Из поколения в поколение всё повторяется, точно в калейдоскопе, с той только разницей, что при каждом повороте изнашивается зрительная труба».
− Я телевизор не смотрю, − заметил он вслух.
− И я, признаться, в дерьме не купаюсь, − ехидно парировал Антип. — Но дом-то весь в тарелках! Нет, прогресс как раковая опухоль, которую не остановить! Мы его недостойны, и когда-нибудь это всё плохо кончится. — Он плотнее запахнул халат, прикрывая дырки. — Посади обезьяну за руль — до первого столба! А власть? Раньше дубина правила, теперь — бумажки.
− Бумажки? — встрепенулся Нестор.
− Ну да, купюры, векселя. Удобно! За дубину-то видно, кто держится, а так — счастливое неведение. — Он сердито фыркнул — И весь прогресс! А другого мы не достойны.
− И как ты с такими мыслями служишь?
Антип преобразился, грозно надвинувшись, превратился в батюшку Никодима, в его взгляде засквозила семинария:
− А вот так!
Нестор со смехом отпрянул. Но, поддерживая беседу, он думал о своём. В последнее время его всё чаще посещали призраки: вот идёт Ираклий Голубень, одной рукой держит трубку, а другой, будто Христос, изгоняющий торгующих из храма, вырывает книги в мягком переплёте: «Поберегите свою бедную голову! − говорит он с присущим ему при жизни артистизмом и, переворачивая обложкой с фотографией автора, иронично кривится: − А что ты сделал для искусства?», за ним, как за дымящимся паровозом, бредут Дементий Рябохлыст и Викентий Хлебокляч, горячо споря на ходу: «Это я впал в детство? А бизнесом заниматься − разве не диагноз?», а замыкает процессию Изольда, которая, прихрамывая, тащит на верёвке слепого Савелия Тяхта.
− Ты не прозрел? − удивляется Нестор.
− А разве зрячие счастливее? − кривится Савелий Тяхт, и Нестор видит, как за ним вприпрыжку бежит маленький зелёный человечек.
С годами безумие Нестора прогрессировало. «Важно не как жить, а зачем», − всё чаще повторял он про себя, обходя дом, и косился на жильцов, которые, улыбаясь домоуправу, не догадывались о том, что для того, чтобы дышать, должны иметь в его глазах оправдание своей жизни. Нестор всё измерял общественной пользой, приносимой на алтарь его вселенной, в которой можно было воспитывать детей, как Саша Чирина или Изольда, писать картину, как Ираклий Голубень, или лечить, как Марат Стельба, но он не терпел пустого прожигания жизни, относясь к ней серьёзнее того, чем она заслуживает, считал себя вправе давить паразитирующих на ней, как делал это, расхаживая по квартирам с морилкой, выводя клопов. Отрезать неудачников, тех, кто не вписывался в его систему ценностей, и тем самым улучшить породу − в этом состоял его бесхитростный план благоустройства дома, ради которого он работал как каторжный, отдаваясь ему с той же самозабвенностью, с какой играл в детстве у Тяхта оловянными солдатиками. Его лицо с возрастом сделалось жёстким и властным, приобретя те обезображивающие черты, которыми награждает постоянное осознание собственного превосходства, тщательно скрываемое под маской любезности. Но в последнее время в связи с появлением призраков, которые и за гробом были так же несчастны, как при жизни, он стал сомневаться в своих действиях. С этим Нестор и пришёл к батюшке Никодиму, как на исповедь. Он открыл, было, рот, но вместо этого откланялся. А в его снах снова и снова взбирался на парапет Михаил Михолап, ставший Борисом Барабашем, сходил с ума известный писатель, умирал Еремей Гордюжа, — они навечно поселились в его памяти и проживали в ней всё новые и новые жизни. А были ли они? Может, их выдумали? А дом? Для кого из них он был домом? Или его тоже выдумали? Опять вспомнив стихотворение Ираклия Голубень, Нестор подумал, что и Бог знает правду о тех, кто жил когда-то, только потому, что он её выдумывает. Но и в домовых книгах пережитое воскресает из небытия с каждым прочтением, будто заново сотворённое. Перебирая ушедших, безразличных друг к другу, как курицы, которых наблюдал во дворе детского дома, Нестор думал, что зло не может вернуться добром, что они не смешиваются, как масло и вода, а встав по ту сторону добра и зла, уподобляешься Богу. И, как цербер, охранял свою маленькую вселенную, на которую нацелилась чудовищная пустота, расстилавшаяся за каналом. Он ждал от неё напастей и бед. И не ошибся. Вслед за землетрясением и эпидемией неусидчивости гигантская пустыня наслала ураганный ветер. Уже год, ровно в полночь, он налетал из-за канала, как разбойник, страшный, буйный, валя с ног, забивал лёгкие, будто свинцом, не давая дышать. Штурмуя восьмивратную крепость, ветер выл, как бешеный, в трубах, сёк кирпич дождями, снегом, песком, с рёвом перекатывая их по крыше, будто сошедшая с гор лавина. Он гудел в проводах, разгонял тучи, и жильцам, слушавшим, как черневшая ночь раздувает эоловы мехи, казалось, будто она давит на дрожавшие окна тяжестью Млечного Пути. Сорвавшись с цепи, нот и борей свирепствовали до утра, переворачивая машины, очищали от них двор, как от осенней листвы, липли к железным дверям, со скрежетом грызя замки, едва не сдували в канал каменных львов. Ветер стихал так же неожиданно, как и поднимался, оставляя скособоченные, перевёрнутые урны, покосившийся забор, который приводили в порядок дворники, и кристально чистый воздух. Чтобы ночью передвигаться по всему дому, прорубив стены, соединили подъезды внутренними переходами, проложили лестницы в подвалы с магазинами и кафе. К полуночи дом захлопывался, как теремок, сторожа, задраивая щели, как на подводной лодке, пугали, будто ветер настолько сильный, что унесёт без следа, но проверить это никто не решался. Восьмой казнью египетской ветер нёс кузнечиков, швырял в окна муравьёв, которые, расползаясь, в самых неожиданных местах устраивали муравейники, поднимая в воздух дождевых червей, вместе с землёй опускал в водосточные трубы, спасаясь от него, на чердаке завелись слепые жуки, которые, расплодившись, лезли за шиворот среди бела дня. «У дятла на что голова крепкая, и то спятил», − показывали пальцем дети, когда он бешено долбил клювом кирпичную стену, выковыривая насекомых. Ночами дом напоминал островок в море, он погружался в страх, и тогда казалось, что его окружает бесконечная, пугающая, беспредельная, дикая, страшная мгла, в которой утонул весь мир. Против бури не действовали ни молитвы батюшки Никодима, ни заклятья Саши Чирина, вспомнившей свои цыганские корни и дувшей на воду, шепча: «Офга меза, кугу бара», − на языке, которого сама не понимала. Оказался бессилен и Нестор со своим предвидением. Издеваясь над ним, ветер выл и выл, протяжно и надрывно, точно чего-то ожесточённо требуя или прося. В этот год редко справляли новоселье — точно насытившийся обжора, дом старел вместе с жильцами, дети которых наследовали, как обветренные губы, обветшалые квартиры.
− Ветер, ветер, на всём белом свете, − повторял за матерью Артамон Кульчий, раскрыв на одеяле букварь. — А почему?
Виолетта пожала плечами:
− Природа бунтует.
− Наверное, он ищет друга, а от него все запираются, вот и злится.
Артамон простудился, уже месяц над ним колдовали врачи, и он лежал в постели, пил от жара горькую микстуру, а от кашля — круглые сладкие таблетки, которые, прежде чем проглотить, катал за щекой, но не помогало ни то, ни другое. Ночами ему делалось хуже, худенькое тело колотил озноб.
− Ветер уймётся, если найдёт себе друга, − повторял он в бреду низким грудным голосом. — Пустите меня к нему!
Зубы у него лихорадочно стучали, мать, отвернувшись, плакала в платок, а Архип, поправляя подушку, трогал воспалённый лоб:
− Конечно, конечно, вот поправишься…
Версия Артамона, одушевлявшая природу, настолько расходилась с общепринятой, относящей её буйство на волю случая, что её приняли за детскую выдумку. Но ночной ветер по-прежнему являлся незваным гостем, и в пятницу на Страстной неделе, когда мать молила Богородицу о спасении своего сына, Артамон сел на кровати, глядя бессмысленно блестевшими глазами:
− Почему вы не верите? Или вы трусы? Чем жить среди вас, лучше умереть.
Он впал в беспамятство. Пригласили Нестора, который поспешил к крестнику, бросив все дела. Домоуправ стоял у его постели, слушая бессвязные восклицания, и не мог понять, зачем Артамон тянул все эти годы, а не утонул в купели, выскользнув из рук о. Мануила. Есть ли во всём этом смысл? Если есть, значит, ребёнок выживет. А если нет, то зачем ему дальнейшая жизнь? Забыв обиду, Архип позвал батюшку Никодима, который, взяв Артамона за руку, собрался его причастить. Но ребёнок продолжал свои безумные речи:
− Да-да, вы все трусы! — чревовещал он недетским голосом. — Ни на что не способные трусы!
Архип стал одеваться.
− Куда?! − бросилась ему на шею жена. − Мне что, одного мало?