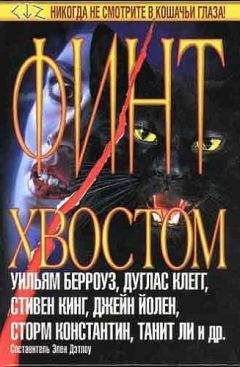Джеральдина Брукс - Люди книги
— Воле Шойинка получил Нобелевскую премию по литературе, мама. И в Нигерии говорят по-английски.
— Ну да, конечно, тебе такие вещи лучше известны.
Она положила руку мне на плечо и уже подталкивала к выходу.
— Я хочу тебя попросить. У меня есть несколько снимков. Человек, с которым я работала в Сараево, библиотекарь. Его ребенка ранили во время войны, появилась опухоль… Вот я и хотела спросить, может, ты…
— Теперь мне все понятно. Без причины ты бы меня своим присутствием не почтила.
— Да прекрати, мама. Так посмотришь или нет?
Она выхватила из моих рук конверт и пошла по коридору. Пришлось пройти около мили до пешеходного моста, соединявшего медицинские корпуса. Вошли в лифт. Дверь уже закрывалась, когда к нам засеменил пожилой джентльмен. Один мой приятель придумал слово для определения слабого жеста, который мы делаем, когда мы вроде бы хотим задержать дверь, но на самом деле не собираемся этого делать. Он придумал словечко «медвежливость». Так вот «медвежливость» моей матери превзошла все ожидания: дверь ударила старика по лицу. Мы молча проезжали этажи, затем я ждала, пока она узнавала у интерна, где находится проектор.
Мама нажала на выключатель. Появилась ослепительно белая стена. Щелк, щелк, щелк. Она держала снимки на свету и смотрела на каждый по две секунды.
— Toast.
— Что?
— Так называется атеротромботический или кардиоэмболический инсульт. Скажи своему другу, пусть не тратится на лекарства.
Волна гнева захлестнула меня. Я почувствовала, как глаза наполнились слезами, и выхватила снимки из светового короба. Дрожащими руками я едва запихнула снимки в конверт.
— Что с тобой, мама? Может, ты прогуляла лекцию, на которой учили, как нужно вести себя с пациентами?
— Да ради бога, Ханна. Люди в больницах умирают каждый день. Если бы я расстраивалась из-за каждого снимка… — Она преувеличенно громко вздохнула. — Если бы ты стала врачом, наверняка бы поняла меня.
Я слишком расстроилась и не смогла ответить. Отвернулась, вытерла глаза. Она повернула меня к себе. Присмотрелась.
— Ты что же, — сказала она с презрением, — уж не сошлась ли с отцом этого ребенка? Книжным червем из задворок Восточной Европы. И они там, в Сараево, кажется, все мусульмане? из-за него что ли всполошилась? Неужто связалась с мусульманином? Ну, Ханна, я до сих пор думала, что воспитала тебя феминисткой.
— Ты? Воспитала? — Я бросила конверт на стол. — Ты вспоминала обо мне, только когда подписывала счета, выставляемые домработницами.
Когда я просыпалась по утрам, ее уже не было, и она редко приходила домой, когда я ложилась спать. Самое первое воспоминание о ней связано у меня со светом фар на подъездной дорожке посреди ночи. У нас были автоматические ворота, они скрипели при открывании и будили меня. Я садилась в кровати, смотрела в окно и махала рукой удалявшемуся «БМВ». Иногда мне не удавалось снова уснуть, я плакала, и Грета, домработница, приходила заспанная и говорила: «Разве ты не знаешь, что твоя мама сейчас спасает кому-то жизнь?» И я чувствовала себя виноватой за то, что хочу, чтобы она была дома, в соседней комнате, и я в любой момент могла бы заползти к ней в кровать. Ее пациенты нуждались в ней больше, чем я. Вот что говорила мне Грета.
Мать прикоснулась к блестящим волосам, словно хотела поправить безупречную прическу. «Похоже, я ее уязвила», — подумала я с удовлетворением. Но она быстро взяла себя в руки: не такой она человек, чтобы распускаться.
— Откуда мне было знать, что ты расстроишься? Ты всегда говорила, что ты ученый. Что ж, извини за то, что заставила тебя страдать. Да сядь ты, ради бога, и прекрати сверлить меня взглядом. Можно подумать, что я убила бедного ребенка.
Она вытащила стул из-за стола и похлопала по нему. Я устало на него опустилась. Мать примостилась на краешке стола и элегантно положила одну ногу на другую.
— То, что я сказала, перевожу на простой общедоступный язык. Мозг ребенка представляет собой мертвую ткань, губку. Если продолжать искусственно поддерживать жизнь тела, контрактура конечностей ухудшится, будет происходить постоянная борьба с пролежнями, с легочной и мочеполовой инфекцией. Ребенок никогда не очнется.
Она развела руками:
— Ты спрашивала мое мнение. Я его тебе изложила. И, разумеется, врач уже сказал это отцу?
— Да, но я думала…
— Если бы ты была врачом, тебе и думать бы не пришлось, Ханна. Ты бы знала.
Мы вышли, вместе выпили чаю, не спрашивайте меня зачем. Я пыталась поддерживать разговор: расспрашивала ее о статье, которую она представила, интересовалась, когда она будет опубликована. Понятия не имею, что она мне отвечала. Я думала об Озрене и «Винни Пухе».
Я все еще думала об этом, когда села в гарвардский вагончик и поехала на другой берег реки к Размусу Канахе, главному специалисту по консервации книг в Музее Фогга. Он мой давний приятель. Размус быстро сделал карьеру и был очень молодым главой научно-исследовательского центра. К консервации он пришел, изучая химию, но, в отличие от меня, ближе подошел к этой стороне работы. Он изучал взаимодействие углеводов и липидов с морской средой, что открыло новую методику обращения с предметами искусства, обнаруженными после кораблекрушения. Вырос он на Гавайях, возможно, этим и объясняется его увлечение морской тематикой.
Система охраны в Музее Фогга в высшей степени строгая, и неудивительно: здесь находится одна из лучших коллекций импрессионистов и постимпрессионистов, а также несколько прекрасных картин Пикассо. В пропуске посетителя имеется чип, он позволяет отслеживать все его передвижения по зданию. Размус должен был спуститься и лично сопроводить меня.
Размус был гением, а определить его этническую принадлежность не представлялось возможным. Надеюсь, когда-нибудь в результате межнациональных браков на Земле будут рождаться дети, по способностям не уступающие Размусу. Кожу цвета ореха он унаследовал от отца, бывшего частично афроамериканцем, частично гавайцем. Волосы прямые, черные и блестящие; глаза миндалевидные — наследство бабушки-японки, только цвет у них холодный голубой — подарок мамы, шведской чемпионки по виндсерфингу. Меня сразу потянуло к нему, еще во время совместной стажировки после защит наших работ. Такие взаимоотношения мне нравятся: легкие, свободные, веселые. Он уходил в море на длинных спасательных вельботах, собирал материал для диссертации, а когда возвращался, мы либо возобновляли общение, либо нет, в зависимости от настроения каждого. Никто из нас не дулся на другого, если у кого-то возникали свои дела.
После Гарварда мы мало виделись, но поддерживали контакт. Когда он женился на поэтессе, я отправила им красивое маленькое издание девятнадцатого века с гравюрами знаменитых кораблекрушений. Свадебная фотография, которую они мне прислали, меня поразила. Жена Размуса была дочерью ирано-курдской матери и пакистано-американского отца. Мне не терпелось увидеть их детей: они будут ходячей рекламой «Бенеттон» [13].
Мы неловко обнялись, так, как это бывает на рабочем месте. Чмокнули друг друга дважды, попали при этом куда-то не туда, ударились лбами и пожалели, что попросту не пожали друг другу руки. Прошли по залитому светом атриуму и по каменной лестнице мимо галерей к металлической двери, ведущей на верхний этаж. Там работали Раз и его коллеги.
В центре консервации причудливо сочетались новейшее научное оборудование и коллекции, собранные его основателем Эдвардом Форбсом. Казалось, он нашел их на каком-то чердаке. В начале прошлого века Форбс колесил по свету, пытался раздобыть образцы каждого красителя, который когда-либо использовался художниками. Стены лестницы были заняты полками с его находками: радуга лазурита, малахита и настоящие редкости, такие как индийский желтый краситель, полученный из мочи коров, питавшихся исключительно манговыми листьями. Этот удивительный пигмент больше нигде не существует. Британцы запретили его производство, потому что ограниченная диета была слишком жестокой по отношению к скоту.
В конце длинной студии кто-то трудился над бронзовым торсом.
— Она сравнивает слепок, сделанной при жизни скульптора, с тем, что изготовили позже, и смотрит, в чем разница, — объяснил Раз.
В другом конце стоял стол со спектрометром.
— Ну, что у тебя есть для меня? — спросил Раз.
— У меня соскобы с запачканного пергамента. Судя по всему, вино.
Я вынула фотографию страницы — ржавое пятно на бледно-желтом фоне. Отметила на фотографиях место, откуда сняла два крохотных образца. Надеялась, что взяла достаточно. Подала Разу конверт. Он взял скальпель и положил первый кусочек испачканного материла на стекло микроскопа с осколком алмаза в центре. Прижал образец, чтобы он ровно лег напротив алмаза. Через него должен был пройти инфракрасный свет. Положил стекло под линзу.