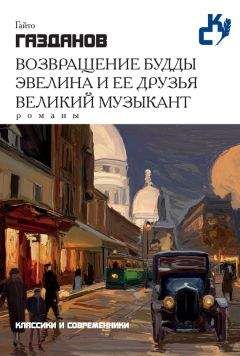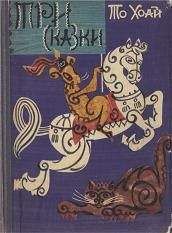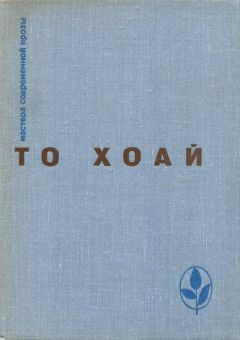Гайто Газданов - Полёт
Вспоминая Сергея Сергеевича за все годы, Лиза с удивлением подумала, что, кажется, никогда он не выразил своего волнения, тревоги или радости – что бы ни случилось. Очень давно, когда кончилась гражданская война и Сергей Сергеевич после своих драматических, казалось бы, приключений и полного крушения того мира, в котором, собственно, прошла его жизнь, приехал в Лондон, где давно уже была его семья, он явился с новенькими чемоданами, в прекрасном, только что выглаженном костюме, чисто выбритый и смеющийся – веселые синие глаза, ослепительно белый воротничок, – так, точно он ездил куда-нибудь поблизости по делам; и когда зашла речь о России и Ольга Александровна говорила: – Боже, какой ужас, Сережа! – он сказал, Лиза очень хорошо запомнила эту фразу: – Дада, так жаль этих бедных, милых генералов. – После покушения на него в Афинах, когда полиция задержала стрелявшего – и промахнувшегося буквально в двух шагах, – Сергей Сергеевич рассказывал потом Лизе: – Знаешь, так приятно было видеть среди этих разбойничьих и смуглых греческих физиономий такое милое, русское лицо – нос картошкой, глаза этакого отчаянного дурачка, ну, просто одно удовольствие. – Мимо! Мимо! – говорила Ольга Александровна Лизе. – Разве ты не видишь, Лизочка, что он всегда и говорит, и идет мимо жизни, как насмешливый лунатик, который все понимает! – И связать свое существование с этим человеком, все – жажду настоящей любви, глаза, которые хотели бы раствориться в чьем-то втором и единственном взоре, сильное и гибкое тело, руки с длинными пальцами и розовыми ногтями, все – в жертву этой машине?.. И вот теперь, когда эта Лиза, созданная для блистательной и несравненной любви, наконец, нашла то, без чего уже невозможно дальше существовать, теперь – точно она хочет идти к Сереже и вдруг у двери видит знакомый широкий силуэт, и металлическая, неживая рука, поперек пролета двери, загораживает ей дорогу. А сколько раз Лиза была остановлена в своем увлечении Сергеем Сергеевичем, в лучших своих чувствах, в лучшие минуты – как тогда, например, когда она цитировала ему те свои любимые строки, лежа рядом с ним и глядя в его глаза: – Ты помнишь это, Сережа?
Мы – два коня, чьи держит удила Одна рука, одна язвит их шпора, Два ока мы единственного взора, Мечты одной два трепетных крыла. Как это замечательно, Сережа! – Да, очень. – И только? – Есть досадная неточность; правда, в поэзии… – Ну, Сережа… – Нет, верно, Лизочка: как же – два коня и одна шпора? Одну шпору носят только ездовые в артиллерии. И потом, удила – это же не поводья, Лизочка. Удила – это во рту у лошади, а не в руках всадника, хотя бы и с одной шпорой. Почему такая скупость в экипировке – вместо четырех шпор всего одна? Но зато две последние строчки – гениальны.
Он не любил ничего замечательного, ничего героического, ничего достигающего вершин человеческого вдохновения. Во всем он находил что-нибудь смешное и тогда мог это рассматривать свысока, – что это такое? защитный рефлекс? – как он сказал бы, может быть, сам, – или жестокость? Первое, что он произносил, говоря о ком-нибудь, было: какой очаровательный человек! какая очаровательная женщина! И потом он прибавлял еще несколько слов – о самом досадном недостатке этого человека или этой женщины, и выходило, что первый оказывался мерзавцем, а вторая дурой. Но они все-таки милейшие люди. Милые, очаровательные – это были любимые его слова, а, вместе с тем, ничье очарование на него не действовало: горох об стену. Ради чего жил этот человек? Жил – и душил своей жизнью других. – Никогда, ни за что! Опять в эти неживые объятия! – думала она. – Никогда, ни за что! – Он исковеркал жизнь Ольги, он почти исковеркал ее, Лизу, он еще не успел погубить Сережу – и этого ему не удастся сделать. Но он не должен ничего знать, иначе эта машина придет в действие, и ее нельзя будет остановить.
А вместе с тем, если бы вдохнуть в него жизнь, какой это был бы замечательный человек! Но об этом ей было неприятно думать. – Что же мы будем делать, Сереженька? – сказала она шепотом, наклонившись над Сережей. Глаза его были закрыты, он ровно дышал во сне, у него было совсем детское лицо. Лиза вспомнила, как они вдвоем с сестрой уходили на цыпочках из детской, после того как мальчик засыпал, и Леля шептала:
– Спи, моя любовь, спи, мой котик, спи, мой беленький.
И потом появлялся Сергей Сергеевич, который говорил:
– Ну, как, девочки, едем мы в цирк или не едем? Представь себе, Лиза, там выступает знаменитый итальянский жонглер Курачинелло и, жонглируя пылающими факелами, наизусть цитирует монолог Раскольникова, потом монолог Свидригайлова. Хочешь посмотреть и послушать?
И вот теперь, вместо этого неправильного, ненастоящего существования, – такая замечательная жизнь с Сережей. Ей иногда хотелось кричать полным голосом, драться, возиться, бегать, – и она, обычно медлительная Лиза, стала не похожа на себя. Когда они однажды засиделись в лесу и нужно было торопиться к обеду и до дому оставалось еще два километра – по красноватой вьющейся аллее, все время вниз, – они пробежали их вдвоем с Сережей, и ей показалось, что ей опять восемнадцать лет и вновь, как тогда, жадно и быстро в лицо бьют летние запахи горячей земли, раскаленных сосен и дорога послушно убегает из-под ног. И рядом с ней, задерживая постоянный, стремительный разгон, бежал Сережа, подхватывая ее под руку на поворотах; потом длинные прыжки с небольших уступов, мгновенные полеты в остановившемся воздухе и запах собственного тела, свежо и сильно разгоряченного бегом. Ей нравилось все: и постоянная застенчивость, и неловкость Сережи, и неумелые его поцелуи, и то, как он беспомощно путался в ее платье, а она не могла удержаться от смеха, всячески мешая ему, хватая его за руки, – и во влажной ее улыбке блестели ее зубы. Какая глупость – жить столько лет и не знать ничего об этом! Вдвоем они мечтали вслух о том, как они жили бы на острове, в лесу, на берегу зеленой лагуны с прозрачной водой и песчаным дном, как спали бы в пещере, как укрывались бы там во время тропического ливня. Большую часть дня они проводили обычно вне дома – в море или, после обеда, в Ницце, в Вильфранш, вечером снова уходили гулять, и когда возвращались, все в доме спало уже глубоким сном. И только однажды они провели сутки, не выходя даже на террасу, – утром того дня Лиза проснулась от ощущения холода, подошла к окну, чтобы притворить его, и, вставая с кровати, услышала сильный шум дождя. Она приподняла деревянную штору; беспрерывно обрушивающаяся водяная стена струилась и падала перед ее глазами; шел сильнейший дождь. Все пространство, которое она видела перед собой, было полно брызг и водяного тумана, мягко и грозно шумел ветер; с мокрым и звучным шуршанием беспрерывно сыпалась галька на берегу; сквозь разнообразные шумы слышалось быстрое и одновременное журчание нескольких ручьев, все было- всхлипывание, влажный треск и чмоканье размягченной земли, и, прорезывая тяжелый и сырой воздух, где-то неподалеку кричал петух. Лиза не могла отойти от окна. Впервые, быть может, в жизни время исчезло из ее представления; давно, в страшной пропасти исчезнувших тысячелетий, неоднократно было то же: тот же неистовый дождевой вихрь, те же звуки, шум огромной земли и резкий крик петуха – и если бы представить себе мифического титана, который заснул под шум этого дождя крепким сном и проснулся из каменного века в христианской эре, – все было бы то же: водяная стена, влажный туман, резкий крик птицы в сырой, наполненной брызгами мгле. Сережа проснулся, – как бы крепко он ни спал, он всегда, через некоторое время, ощущал ее уход, – поднялся и стал рядом с ней. – Посмотри, мой мальчик, – сказала она, положив руку на его голое плечо. Они стояли оба, дрожа от утреннего холода, и оба, не отрываясь, смотрели перед собой.
– Знаешь, Лиза, что мне это напоминает?
– Что, Сереженька?
– Сотворение мира. Вот такой же космический хаос и там, чутьчуть выше, огромная тень Саваофа над этим клубящимся и дымным миром. Ты представляешь себе это? А вокруг него, конечно, дождя нет и сухо, он в такой колоссальной водяной дыре, – ты понимаешь? Посмотри, Лиза, может быть, он там? Вот ты всматриваешься, и тебе кажется, что далеко в воздухе стелется линия гор, – а это не горы, Лизочка, это его неподвижная каменная рука.
– Там, направо, наверху, Сережа?
– Да, Лиза, приблизительно там.
– А я думаю другое, Сережа.
– Что именно?
– Я о времени. Как ты это говоришь – тяжелый полет?
– Да, если хочешь.
– Так вот, ты чувствуешь в эту минуту, что времени нет? Ты понимаешь, как нелепо – Егоркин, «шеф», Париж, Лондон – ведь этого ничего не существует сейчас, а есть мы с тобой, небо, земля, волны на море и дождь. И вот то, что нам холодно, и то, что я тебя люблю. Давай кричать вместе: времени нет!
Они прокричали это, их голоса тонули в шуме дождя. Затем Лиза сказала:
– Надо еще спать, мой мальчик, иди ложись. И он поднял привычным движением ее тело на руки, и, как всякий раз, она говорила: – Ты с ума сошел, ты уронишь меня, я вешу почти шестьдесят кило, ты с ума сошел, ты слышишь, – но крепко держалась руками за его шею и не отпускала его.