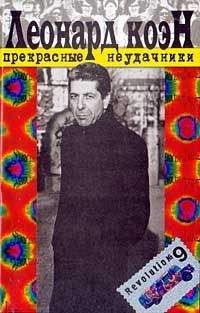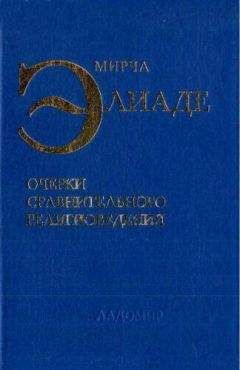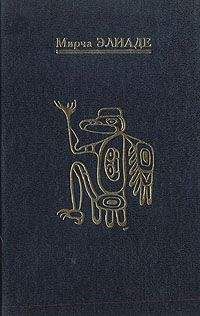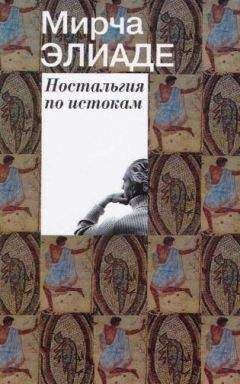Леонард Коэн - Блистательные неудачники
– Здесь.
– Здесь.
– Да
– Присутствую.
– Да.
– Вроде, да.
– Да.
– Все, как будто.
– Да.
Дядя удовлетворенно улыбнулся. Потом он к каждой из них обратился с одной и той же просьбой: «On leur demand á toute, les vnes aprés les autrs, celuy qu'elles veulent des ieunes hommes du bourg pour dormir auec elles la nuict prochaine» [56]. Я привожу эти цитаты из чувства долга, опасаясь, что горе мое иногда искажает факты, а мне бы не хотелось с ними расходиться, потому что факт – одна из возможностей, которую я не могу себе позволить обойти вниманием. Факт – грубая лопата, а ногти у меня посинели и кровоточат. Факт как блестящая новая монета, которую не хочется тратить, пока она не покроется царапинами в шкатулке для драгоценностей, и расставание с ней – последнее печальное подтверждение банкротства. Покинула меня удача.
– С каким молодым воином ты сегодня будешь спать?
Каждая девушка называла имя любовника на ту ночь.
– А ты, Катерина?
– С шипом.
– Интересно будет посмотреть, – захихикали остальные девушки.
О Господи, дай мне силы пройти через все это. У меня брюхо не варит. Мне холодно и противно. Я блюю в окно. Я говорю гадости о Голливуде, который так люблю. Вы можете себе представить того, кто на такое способен? Пещерный еврей из другого времени вопиет о милосердии, дрожит от страха и блюет в свое первое лунное затмение. Изблевался весь – ну и звуки! Ну и молитву я Тебе творю! Я и с тысячеголосым хором не знал бы, как ее надо правильно вознести, чтобы при ее звуках возникал образ лилии. Как мне с этакой лопатой, которой разве что снег можно разгребать, алтарь воздвигнуть? Мне хотелось засветить лампаду в маленькой придорожной часовенке, а я провалился в яму со змеями. Мне хотелось оснастить пластмассовых бабочек резиновыми моторчиками и прошептать: «Смотри, какая пластмассовая бабочка получилась», а вместо этого я дрожу в тени пикирующего археоптерикса.
Церемониймейстеры (les Maistres de la cеrеmonie) приглашали юношей, названных девушками, и вечером они рука об руку приходили в длинный дом. Подстилки были постланы. Из конца в конец хижины они лежали парами вдоль двух стен длинного дома «d'vn bout а l'autre de la Cabane» и стали девушки с юношами целоваться и сношаться и сосать и обнимать и стонать и раздевать друг друга скидывая с себя накидки из шкур и обжимать друг друга и покусывать соски и щекотать члены орлиными перьями и вертеться в поисках щелей и отверстий и лизать извивы тел и хохотать, когда соитие других казалось им забавным, или замирать и хлопать в ладоши, когда два тела со стонами сливались в трансе оргазма. Стоявшие по краям длинного дома два индейца-начальника пели в такт рокота погремушек из черепаховых панцирей, «deux Capitaines aux deux bouts du logis chantent de leur Tortue». К полуночи дяде стало лучше, он поднялся со шкуры, на которой лежал, и медленно, еле волоча ноги, побрел вдоль длинного дома, останавливаясь то тут, то там, чтобы отдохнуть, положив голову на чью-то голую задницу или запустив пальцы в сочащуюся щель, совал нос между сношавшимися, чтобы лучше видеть все детали процесса, подмечать необычное и острить о причудливом. Так он неуклюже перебирался от одного зрелища к другому, как фанат кино по 42-й улице, дергал кого-то за член или тряс его мелкой дрожью, зажав между большим и указательным пальцами, шлепал кого-то по расслабленному смуглому бедру. Каждое совокупление повторяло другое, и каждое чем-то отличалось от остальных – именно в этом и состояла тайна исцеления старика. Все его женщины возвращались к нему, все его реликтовые соития, все его оперенные щели и лоснящиеся округлости, когда он перебирался от одной пары к другой, от одной томительной позы любви к другой, от одного качающего любовь насоса к другому, от одного всхлипа-хлюпа к другом от объятья к объятию – и вдруг до него доще ' смысл величайшей молитвы из всех, что он зна первой молитвы, которой проявил себя Маниту, Са' мой важной и самой верной священной формулы Ковыляя дальше в потемках длинного дома, он стал петь это заклинание:
– Я меняюсь
я такой же
я меняюсь
я такой же
я меняюсь
я такой же
я меняюсь
я такой же
я меняюсь
я такой же
я меняюсь
я такой же
Он не пропускал ни единого звука, ему нравилось петь эти слова, потому что, выводя каждый звук, он чувствовал его изменение, но каждое изменение было возвращением, а каждое возвращение – изменением.
– Я меняюсь
я такой же
я меняюсь
я такой же
я меняюсь
я такой же
я меняюсь
я такой же
я меняюсь
я такой же
я меняюсь
я такой же
я меняюсь
я такой же
То был танец масок где каждая маска была совершенной потому что каждая маска была подлинным лицом а каждое лицо было подлинной маской а потому масок вообще не было как не было и лиц а был лишь один танец в котором была лишь одна маска лишь одно подлинное лицо остающееся неизменным лишь одно безымянное существо вновь и вновь меняющееся в себя самого.
Когда забрезжил рассвет, индейцы-начальники стали медленнее трясти своими черепаховыми маракасами. С наступлением зари все собрали свои одеяния. Коленопреклоненный старик объявил всем свою волю, сказал, что исцеление его завершилось, и любовники неторопливо разбрелись по покрытой росой зелени туманного утра, обнимая друг друга за плечи и талии, – отзвенела ночная смена на фабрике любви. Катерина пролежала с ними всю ночь, но осталась нетронутой. Как только она вышла из длинного дома на залитую солнцем поляну, к ней подскочил священник.
– Как там все прошло?
– Вполне приемлемо, отец мой.
– Dieu veuille abolir vne si damnable et malheureuse cérémonie [57].
Последнюю ремарку я привожу по тексту письма Сагара. Гуроны называли этот уникальный в своем роде способ исцеления андаквандет.
50
Я вслушиваюсь в завывания холодного ветра – может быть, он даст ответы на мои вопросы, наставит меня на путь истинный и утешит? Но слышу в ответ лишь посулы зимней стужи. Ночи напролет я плачу по Эдит.
– Эдит! Эдит!
А волчий силуэт на холме отвечает мне так, будто его от рвоты наизнанку выворачивает.
– Помоги мне, Ф. Объясни, зачем нужны бомбы?
А в ответ опять только омерзительные звуки блевотины.
Чередой мечтательных образов все мы лежим в объятиях друг друга. Чередой рассветов зима застает меня одинокого среди жухлой листвы, в сосульках соплей, со слезами на глазах.
– Ф., зачем ты привел меня сюда?
Или мне ответ здесь найти предначертано? Или этот дом бревенчатый – хижина Оскотараха? Или, Ф., ты сам черепа протыкаешь, чтобы мозг высасывать? Никак не думал, что эта процедура такая долгая и мучительная. Подними-ка снова свой затупившийся томагавк и ударь еще разок. Засади мне каменное лезвие поглубже в кашу мозгов. Хочется свету лунному мне забраться внутрь черепа? Хочется искрящимся лучам ледяного неба сквозь глазницы мои просочиться? А может быть, Ф., ты сначала сам черепа протыкал, а потом оставил свою хижину и нарочно попал в больничную палату, чтобы на собственной шкуре узнать, что такое черепа дырявить? Или ты все еще со мной, и хирурги продолжают своими скальпелями орудовать?
– Ф., гнусный совратитель чужих жен, объясни же мне, в конце концов, что тебе надо?
Я прокричал свой вопрос в ночи, как выкрикивал его уже много раз. Я помню твою поганую привычку заглядывать мне через плечо, когда я занимался делом, – ты, должно быть, надеялся выудить какую-нибудь мысль из тех книг, что я читал. Как-то ты подсмотрел строку из письма отца Лалемана, написанного им в 1640 году, о том, «que le sang des Martyrs est la semence des Chrestiens» [58]. Отец Лалеман сетовал на то, что в Канаде еще не был убит ни один священник, он писал об этом как о дурном предзнаменовании для недавно созданных среди индейцев иезуитских миссий, потому что кровь Мучеников есть семя Церкви.
– Чтобы ускорить революцию в Квебеке, нужно немного крови.
– Почему ты так странно смотришь на меня, Ф.?
– Думаю о том, достаточно ли я тебя выучил.
– Я уже по горло сыт твоей грязной политикой, Ф. Ты как заноза в боку парламента. Ты контрабандой привозил в Квебек динамит, выдавая его за шутихи и фейерверки. Ты превратил Канаду в огромную кушетку психоаналитика, на которой нас постоянно преследуют кошмарные видения самобытности, а от всех решений, которые ты предлагаешь, тянет такой же оскоминой, как от трепа психиатров. Ты спал с Эдит, когда хотел, от этого у нее разум помутился и тело перестало ее слушаться, из-за тебя я стал одиноким книжным червем, а ты продолжаешь меня терзать.
– Ох, мой дорогой, в какого же урода тебя превратили История и Прошлое, в какого жалкого урода.
Тесно прижавшись один к другому, мы стояли в терракотовой акварели библиотечных стеллажей, как часто бывало и раньше, глубоко засунув руки в карманы друг друга. Меня всегда коробило от выражения превосходства у него на лице.
– Урода! Эдит никогда не жаловалась на мое тело.