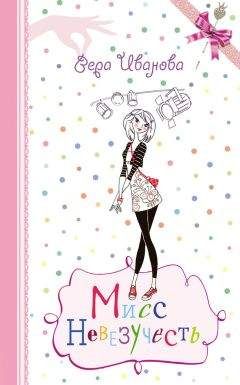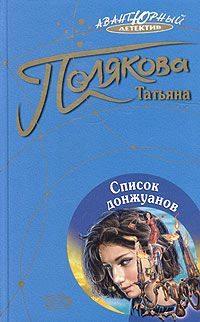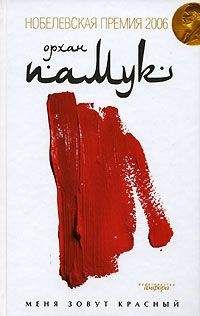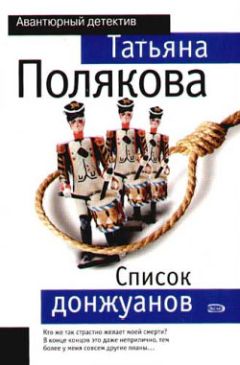Николай Кононов - Нежный театр
Я подозревал, что в ней живет некая тайна, и через ее познание я смогу наткнуться на путеводную нить. Эта нить должна привести меня к моей матери, в ее мир, в ее чертоги через особые истины женщины, которые я не помнил, но понимал, созерцая их в неродном существе Буси.
Мне только надо было поднапрячься.
И за темным ветром, скользнувшим в волосах ее склоненной головы, я видел приметы другой невероятно печальной женщины, все время ускользающей от меня, как нежизнеспособная Дафна. И я не мог не только познать ее облик, становящийся смутной листвой, но и увидеть себя, желающего это сделать. Лишь легкое смятение, засекаемое мной в самом себе, когда я подглядывал за нею.
Мне так хотелось увидеть ее наготу, и я прятался под столом. Но кроме сомкнутых круглых коленок и сдвинутых тонких лодыжек и стоп в домашних тапочках мне ничего не приоткрывалось. Ведь купая меня, должна же она тоже в конце концов раздеться…
Так ли она устроена, как Пашка со второго проходного двора, что щедро предлагала мне в сырой полутьме между сараями пощупать себя. Только осязать, хоть целый час, но ни в коем случае не подсматривать туда. И я мял в самой низине ее тощего живота замшевый двойной бугорок с липкой ложбинкой посередине. До одурения, как самого себя, но со знаком минус.
Я прочел ей тогдашнюю литературную новинку:
Единожды един – шел гражданин.
Дважды два – шла его жена.
Трижды три – в квартиру зашли.
Четырежды четыре – свет потушили.
Пятью пять – легли на кровать.
И вот – самая главная строчка.
От этого Пашка точно обалдеет:
Шестью шесть – он схватил ее за жесть.
– Ну ты и дурак! За «шерсть»!
– За какую еще «шерсть»?
– Там у всех тетенек – шерсть. Ну ты и дурак! Ой, ну и дурак!
В глубине меня образовался провал, и в него ухнуло все, что было во мне. Я задохнулся. Трахеи и легкие в мгновенном кашле заросли густой шерстью.
Опомнился, когда колотил Пашечкино козье личико, когда попадал в мякоть ее тела и когда задевал черные дощатые стены сарая. Как мельница.
Я дико вопил, разбрызгивая слезы:
– У моей матери шерсти нет! Она не то, что твоя. Она не сука собачья!
Пашечкина мать с рычаньем ухала за мной вокруг клумбы. В ее руке опасно краснела четвертина кирпича. Если догнала, то убила б. Но мальчики, в отличие от толстых тетенек, очень верткие существа, тем более когда тетеньки одышливо хрипят им в спину ругательство, страшнее которого на свете нет: «изверг, изувер, фашист, эсесовец!»
Но все-таки складки на платье Буси, когда она сидела за нашим обеденным столом или на диване, особенно те, где рукава через чуть зажеванную теснотой, заминающуюся пройму переходят в тугой по тогдашней моде лиф, – говорили моему любимому стыду больше, чем вся ее голизна, прозреваемая мною, когда я ворочался ночью в постели.
Я искоса рассматривал ее запястье с поперечинками тонких складок, потом следы заусенец, распаренные круглые лунки, где залегали коротко остриженные некрасивые ноготки. Она перехватывает мой взор и собирает пальцы в горсть, отводит, чтобы я их не видел.
– Вот, как на пенсию пойду, перво-наперво, не поверите, отпущу себе вот такой красный маникюр, – говорила она бабушке, смеясь.
Она треплет мои вихры. Играя, чуть прижимает к себе.
Но бабушка заглотила наисладчайшую речевую наживку. Она оправляет плавники фартука, как рыба:
– Неправильно ты все говоришь. Не «пойду» а «выйду». На пенсию выходют. И не отпущу ногти-то, Любовь, а отращу. Отпущу – это ни в коем разе. Вот косу, пожалуйста, отпусти, или там, коль захочешь, распусти, а можешь и вокруг макушки, тогда уж – «заложу» говори, – поучала бабушка, не имеющая тоже никакого маникюра, но проявляющая всегда редкостную чувствительность к русским глаголам. Типа «одену» – «надену», «вдену» – «продену» – «дену», «накрою» – «укрою». И откуда это было в ней?
– Ввек мне разговор не показать культурный, – согласилась простодушная и заранее во всем виноватая Буся.
Но я-то видел, что она совсем не расстроилась.
– Да уж, по культуре говорить, это тебе не то что там на лавочках с дурами балакать или с хамами болтать. Мать так и не приучилась. Все тоже «ложить» говорила. Все ей было – «ложить» да «наложить». Когда ясно дело – «ложить» там или «класть». Так и где ей было-то бедной научиться. С деревни – на завод, да оглянуться не успела – так замуж за курсанта, вот тебе и – хорошая прописка, да и жилье городское. И комнатка самая светлая и теплая – у меня. Не гнать-то ведь единственного сыночка.
Бабушка поджимала губу. Эпитет «покойная» из ее речи исчез. А появление частоколов «и» показывало крайнее раздражение. Глядя на меня, она начинала магически причесываться, вела округлым гребнем к пучку седин на затылке. Это означало, что она входит в фазу осуждения своего сына – моего отца. Волны такого недовольства, наверно докатывались в такие вечера и до него, где бы он не находился. Еще немного и бабушка начала бы сжигать вычесанные волоски на стеклянной розетке для варенья.
В ней явно было что-то колдовское. А то, что глаз тяжелый – так это несомненно. Ведь если она меня упреждала: гляди, «упадешь», «слетишь», «опрокинешься» или «навернешься», я точно через какое-то время падал, слетал, опрокидывался и наворачивался. И мне порой чудилось, что глаза ее устроены как стреляющий язык хамелеона. Они опережали меня и всегда подсматривали, где со мной стрясется несчастье. На все мои сетования, слезы и вопли она изрекала одно и тоже:
– Смотри, я ведь тебе говорила. На тебя йоду не напасешься.
И слово «смотри» я понимал, как кругляши ее глаз, способные выкатываться из очков, и отдельно от нее повсюду со мной следовать, не упреждая, а только фиксируя мои несчастья.
Буся смолчала. Она ведь была в полном разладе с глаголами. Она, как сороконожка, задумавшаяся о своей сорокостопой походке, впала в речевой ступор. В такие моменты она всегда оправляла на коленях материю платья. Как-то стыдливо натягивала ее. Будто собиралась штопать несуществующие прорехи.
Надо сказать, что для забвения своих давних обид и попранных амбиций бабушка была еще очень энергична. Старчество не наделяло ее уступчивостью. А даже больше распаляло. А я был для нее свидетельством рухнувших надежд на выход сына на ту орбиту, где обретаются «настоящие люди». Но что с этим можно было поделать? И я, еще не понимая всей сложности мировых вещей, уже ненавидел эти бабушкины ничего не связывающие союзы, они ведь ничего не соединяли, а действовали ровно наоборот, разделяя и обижая еще сильнее, чем самая поганая нищая жизнь.
Я тихонько бормотал, глядя на ее седой пучок, стишок-дразнилку. Этот стишок я как бы скандировал одними ноздрями, узко вдыхая в себя:
И-и-и-и и-и-и
Ишаки икать пошли.
На «пошли» я, задыхаясь, глядел уже в ее увеличенные мутные глаза за линзами очков.
Глагол «икать» я менял на более дерзкие, а иногда и совсем ругательные, связанные с опорожнением ишачьего организма. В зависимости от количества союзов в бабушкиных речах.
Мне кажется Буся понимала, что я про себя такое твержу. Ведь она была мне больше, чем простая союзница.
Думаю, что вряд ли я смел так же как Бусю «наблюдать» мою мать, если бы жизнь дала мне шанс ее хотя бы раз осознанно увидеть, узреть и опознать. Хотя бы во сне. Пусть в самом кратком и мимолетном. Но сны о ней, плотской и ласковой, у меня были так же изъяты, как и она сама. Она мне не являлась во сне.
___________________________
Мы никогда с Бусей не катаемся на быстрых каруселях, так как меня при одном только виде сидений, висящих на цепях и ровно покачивающихся, начинает тошнить. А Буся после одного несчастливого случая панически боится, что от скорого движения подол ее платья задерется и будет тогда «стыдоба и срамотища».
«Стыдобаисрамотища» – в одно страшное слово.
Она очень предусмотрительна и аккуратна, так как боится этого самого стыда. Он для нее одушевленный объект, следующий всегда за нами следом, куда бы мы не отправлялись.
Он представлялся мне исполином в пыльном рабочем платье, поворачивающим плошки бессонных глазниц в сторону моей бедной Буси.
Жуть.
Ведь ей в ее одинокой жизни ни при каких обстоятельствах нельзя было осрамиться.
Но однажды я увидел ее первый и последний бунт против этого божества.
Когда жарким летом, она, юной озорницей, полной задора, слетела кубарем с сумасшедшего раскрутившегося диска в «комнате смеха» в том самом злосчастном парке.
Маленькие мальчики, ведь надо сказать, не только очень наблюдательны, но и столь же памятливы. Эта мальчиковая память меня изнуряет. Ее слишком много во мне.
И я помню-помню ее белые-белые топорные, косо-косо стоптанные босоножки. Многократно чиненные. С толстым накатом. Она нерешительно переминалась вместе со мной у чудного заманчивого аттракциона. Недоступного мне, так как «тебя стошнит вмиг». Но она так хотела там впервые в жизни «крутануться».