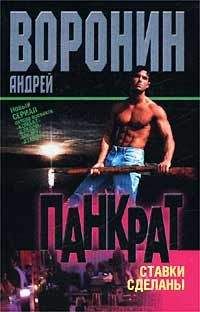Александр Кабаков - Дом моделей
Лежал я поздней ночью на мятой и мокрой по летнему жаркому времени простыне, начинал падать в обморочный, но, по опыту известно, недолгий пьяный сон и вдруг дошел: а зачем его писать-то и дописывать? Мне и так все известно, что дальше будет; читателю, если таковой даже и найдется, можно по-быстрому все короткими словами пересказать, чтобы и он время не тратил, а употребил бы его с пользой – в Эмираты челноком съездил или с коллегой разобрался по понятиям; что же до издателя, то, во-первых, его не предвидится, во-вторых, и он таким оборотом будет доволен, поскольку при равной стоимости бумаги и полиграфии мой художественный прием позволит выпустить на рынок гораздо больше увлекательности (если таковая вообще в замысле присутствует).
Я протрезвел, непрочный мой сон улетучился совершенно, и начал в быстро проясняющемся (до возможных пределов) уме складываться этот самый пересказ.
Получилось вот что.
Мой герой, потомок первой волны эмигрантов, французский архитектор на пенсии, решил прожить остаток дней на освободившейся от большевизма родине предков. В Москве он купил весьма странную, но стильную – как парижскому архитектору, даже и на пенсии, подобает – квартиру: над аркой дома сталинских лет постройки помещение, ограниченное с двух сторон гигантскими итальянскими (полукруглыми) окнами, а с двух других – выходами, ведущими в два, по обе стороны от арки, подъезда. Окна же выходили – одно на Тверскую, в нижней ее, самой престижной части, а другое – во двор, на возвышающийся там плоский холм бомбоубежища.
Оборудуя и обставляя эту свою квартиру, герой познакомился с работягой новых времен: кандидатом наук, мастером-пятиборцем, тяжело выживающим в экономической свободе. Архитектор нанял его шофером, постепенно хозяин и слуга подружились...
И вот таким образом я было стал тянуть повествование, но опомнился: зачем? Ну расскажу, как герой мой, к величайшему удивлению для самого себя, прогуливаясь почти ежевечерне вблизи своего жилья по Тверской, познакомился, потом ближе сошелся, а после и подружился с московскими проститутками, как постепенно сделались они его старческой манией, уже жить не мог он без почти постоянного общения с ними. Стыдясь, пользовался и профессиональными их услугами – притом что никогда не позволял себе такого прежде, ни в Париже, где уж, казалось бы, пожалуйста, первый сорт, ни в экзотических местах, где и необходимость бывала, и все условия... Но чаще просто общался – что называется, по-человечески.
В общем, стали они называть его французским дедушкой, и он этим даже немного гордился, а одну из них выделял, и постепенно...
Дальше сюжет был тоже ясен, но я опять остановился.
Ну, подумал я, и что из этого? Предположим, получится хорошо сваренный триллер: эта самая девка, которую он предпочитал всем другим, маленькое, складно сложенное существо с плохо выкрашенными желтыми волосами, работающее не только за деньги, но, по темпераменту своему, и для удовольствия, окажется подосланной. И однажды втравит моего героя в дурную историю, в которой окажутся замешанными очень большие денежные и государственные люди, – ну вроде бы простая разборка с какими-то уличными бандитами из-за шлюхи, вроде бы она бабки с них сняла и продинамила, вроде бы в его квартире спасается, вроде бы другие девки им подсказали, но на самом-то деле не такая простая история, а попытка подставить в поганое дело одного не то банкира, не то политика, не то всё вместе, – но герой с его шофером-дворецким-другом выкрутятся, уйдут через второй выходвход странной квартиры, а менты повяжут тех, кто сунулся в квартиру, и разразится очередной гигантский политический скандал в стране, а герой будет в ужасе и даст себе зарок никогда и ни в каких обстоятельствах с продажными женщинами не иметь дела, но тут вспомнит то удивительное чувство перехватывающей дух свободы, с которым вынимал оливковые сотенные бумажки и смотрел, как они исчезают в сумочке, а она уже раздевается, вдавленные полоски остаются от снятых лифчика и трусов, освобожденная, падает и расходится в стороны грудь, едва уловимый запах возникает в комнате...
И отказаться от переживания этого вновь и вновь – нет сил.
Словом, вечером он снова выходит на Тверскую и, к своему удивлению, встречает ту самую, с желтыми волосами, она пугается насмерть: и за меньшую вину девчонок мочат только так, – но он даже и не упрекает ее, он ее уже обожает, он уже понимает, что жить не может без этого мелкого животного, без этих ужимок женщины-клоуна, без этой московской Кабирии, и сам представляется себе Мастроянни, что ли, и посмеивается над собой, и ужасается, и все крутится в полной достоевской жути, в стыде, потому что он, кроме нее, водит время от времени к себе и других, доплачивая им, чтобы с нею не болтали об этом, он чувствует себя постепенно сходящим с ума, потому что он тайно! изменяет! проститутке! – это действительно безумие, но он уже полностью утратил волю, чему способствует все увеличивающаяся дневная доза скотча, и уже вовсе какое-то дикое свинство затягивает его, и он специально приводит других девок либо сразу после нее, либо перед, чтобы еще было гаже и чтобы совсем от себя самого тошнило.
Его шофер все видит и даже пытается остановить, образумить старика, которого очень любит, но слова его звучат уже в пустоте – поздно, покатилась так вроде бы достойно завершавшаяся жизнь в грязную, липкую яму, в смрадный погреб, в подполье. И остается только присутствовать при этом и заботиться хотя бы о безопасности старого безумца, то исчезающего куда-то и являющегося невменяемо пьяным – тюкнут такого в темном дворе слегка, только чтобы обобрать явного иностранца, а ему окажется достаточно; то наводящего полную квартиру девок – а им что стоит этого Казанову, без малого семидесятилетнего, клофелинчиком угостить и все, что в сумки поместится, прибрать. Он наутро – если проснется, конечно, у девок-то дозы на молодых рассчитаны – и не вспомнит, кто был, а хоть и вспомнит, так к ментам не пойдет – стыдно...
И так все и движется, приближается с нарастающей скоростью естественный такого безобразия паршивый конец.
Она уже почти переехала к нему, и на жизнь он ей давал вполне достаточно, так что работу могла бы бросить, но ни она, ни он об этом разговора не начинали, и оба понимали, почему не начинают, но она это понимание не могла даже для себя сформулировать, а он-то мог, но не хотел – боялся.
И вот однажды, набравшись сверх обычного в компании своего все быстрее стареющего – и, соответственно, все быстрее пьянеющего – содержателя, желтоволосая заговорила, без истерики, нормальным своим, невыразительно нежным голоском, так же, как иногда рассказывала по просьбе совсем одуревшего от похоти старика о других клиентах и своих с ними развлечениях.
«Тогда ведь они могли тебя замочить, – сказала она, – только я с ними договорилась, что вторую дверь снаружи закрою, я им и про нее сказала, а сама не закрыла, так они мне не поверили и сами проволокой замотали, а я пошла и раскрутила, все пальцы изломала, а потом хотела своим ключом все-таки закрыть, надоел ты мне тогда с твоими ухаживаниями, а потом все-таки не закрыла, так что я тебя не только подставила, а спасла, а подставила их, потому что мне одни пацаны две штуки дали, чтобы я их подставила, а что те тебя замочат, этих пацанов даже устраивало, потому что тогда тем по пятнашке, минимум по десятке светило, а так они меньше получили, но я тебя пожалела, а потом и тебя боялась, тебе же не расскажешь все, и пацанов особенно боялась, но они меня не тронули, потому что тут все началось, в газетах и по ящику, и пацанам этого в принципе было достаточно, а я им сказала, что те сами дверь не закрыли, и пацаны мне, не знаю почему, поверили, а потом...»
В то же время, пока я все это излагаю, додумывая на ходу сюжет, в моей собственной жизни продолжает идти реальное (так я думаю) время, и жизнь происходит сама по себе, независимо от моего сюжета.
В этой жизни существует город, ставший за последние годы не просто неузнаваемым, а поменявший даже климат, не то Сочи, не то Нью-Йорк, дикая влажность, все с непривычки ходят потные, липкие, жалуются на давление, а вокруг каждый день меняется картинка, уходят тени знакомой Москвы, случайно свернув в переулок, обнаруживаешь заканчивающуюся стройку, особнячок реконструированный или шикарный гостиничный билдинг в стиле фальшивого русского модерна, понимаешь, что, когда эта новая жизнь устоится окончательно, тебя уже не будет, и не знаешь – радоваться, что не доживешь, или плакать, но скорей все же радоваться, черт с ними, с комфортом и чистотой, которые неизбежно наступят, но та, единственно понятная и находившаяся внутри тебя, как печень или желудок, жизнь исчезла, и правильно будет исчезнуть вслед за нею, только краем глаза посмотрев на новую, уже не твою.
Это фон.
А на переднем плане все своим чередом: служба, неприятности со здоровьем, вызванные как естественными возрастными причинами, так и – в большей степени – совершенно неуверенной жизнью... И однажды я заметил, что становлюсь все больше похож на своего недописанного, но скороговоркой обозначенного героя.