Ванесса Диффенбах - Язык цветов
Элизабет высыпала в пакет содержимое шести бумажных тарелок, заплатила и двинулась к следующему прилавку. Я шла за ней по жаркому рынку и тащила пакеты, не уместившиеся в набитую полотняную сумку. У молочного фургона она налила мне кружку молока из запотевшей стеклянной бутылки.
– Все? – спросила я.
– Почти. Пойдем, – сказала она и потащила меня к самому краю площадки.
Не успела она миновать последнего в ряду знакомого торговца абрикосами, как я поняла, куда она идет. Сунув скользкую бутылку под мышку, я подбежала к Элизабет, схватила ее за рукав и потянула назад. Но она лишь ускорила шаг. И не останавливалась, пока не оказалась у прилавка с цветами.
На столе лежали букеты роз. Приглядевшись, я поразилась их безупречности: все лепестки гладкие, плотные, прижатые друг к другу; кончики закручены тугой спиралью. Элизабет стояла неподвижно и тоже разглядывала цветы. Я ткнула пальцем в букет из разных цветов, надеясь, что она выберет его, заплатит и уйдет, не заговорив. Однако не успела она ничего сказать, как мальчик схватил цветы в охапку и бросил в кузов фургона. Глаза у меня стали как плошки. Он отказался продавать цветы Элизабет! Я по смотрела, как она отреагирует, но ее лицо было непроницаемым.
– Грант, – проговорила она. Мальчик не ответил и даже не взглянул на нее. Но она не сдавалась. – Я Элизабет. Твоя тетя. Наверняка же ты знаешь.
Склонившись над кузовом, Грант укрывал цветы брезентом. Он смотрел только на розы, однако его уши навострились, и он поднял подбородок. Вблизи он выглядел старше. Над верхней губой был легкий пушок, а на руках и ногах, которые издалека казались худосочными, виднелись мышцы. На нем была простая белая майка, и, когда он сдвигал лопатки, тонкая ткань натягивалась. Меня это заворожило.
– Собираешься меня игнорировать? – спросила Элизабет. Когда он не ответил, она заговорила другим голосом – каким говорила со мной в первые недели после моего приезда: строгим и терпеливым, но неожиданно срывающимся на ярость. – Тогда хотя бы посмотри на меня! Смотри, когда я с тобой говорю!
Но он ее не послушал.
– К тебе все это не имеет отношения. И так было всегда. Годами я издалека наблюдала, как ты взрослеешь, и больше всего на свете мне хотелось броситься к тебе и взять на руки.
Грант закрепил брезент веревкой; мышцы на руках напряглись. Трудно было представить, что его можно взять на руки, что когда-то он не был таким сильным. Затянув последний узел, Грант обернулся:
– Если вам так этого хотелось, что же вы ничего не сделали? – Его голос был холодным, лишенным эмоций. – Вам бы никто не помешал.
– Неправда, – ответила Элизабет, качая головой. – Ты не понимаешь. – Она говорила тихо, и в ее голосе я уловила низкие вибрации, знакомые мне по общению с предыдущими приемными родителями: они предвещали угрозу. Но она не набросилась на него, как я ожидала. Вместо этого она сказала такую неожиданную вещь, что мы с Грантом оба рассмеялись. – Сегодня Виктория печет ежевичный пирог, – прошептала она. – Приходи в гости.
11Лицо Гранта, полное отчаяния и разочарования, стояло перед глазами, не давая мне уснуть. Перед рассветом я бросила и пытаться, села за кухонный стол и стала ждать, пока услышу звук мотора. Но вместо этого раздался тихий стук в дверь, заставивший меня вздрогнуть. Когда я открыла, Грант сонно прошел мимо и поднялся по лестнице. Из ванной донесся звук льющейся воды. Я поняла, что сегодня воскресенье, и мне вдруг захотелось вернуться в голубую комнату, к Ренате, к работе и грядущей предпраздничной суете. Слишком долго я жила у Гранта. Но в город он сегодня не поедет. Я села на нижнюю ступеньку и стала думать, как убедить его в выходной проделать путь длиной в три часа.
Я все еще ничего не придумала, когда Грант толкнул меня ногой между лопаток. От неожиданности я сползла со ступеньки на кухонный пол. Кое-как поднялась.
– Вставай, – проговорил он. – Я везу тебя домой.
Эти слова были мне знакомы. Перед глазами пронеслась эта фраза в различных ее вариациях – мне годами приходилось слышать ее снова и снова. «Собирай вещи…», «Алексис больше не хочет делить с тобой комнату…», «Мы слишком пожилые, чтобы возиться с детьми…». Но чаще всего никто ничего не говорил, просто приезжала Мередит; изредка это сопровождалось неловким «очень жаль».
И я ответила Гранту то же, что и всегда:
– Я готова.
Я взяла рюкзак, который заметно потяжелел – теперь в нем лежали камера и несколько десятков пленок. Села в фургон. Грант быстро ехал по все еще темным проселочным дорогам, выезжая на встречную, чтобы обогнать пикапы, нагруженные фруктами и овощами. Свернув на юг на первом повороте, он выехал на мост, а на развязке остановился на обочине. Автобусной остановки вблизи не было. Не шевелясь, я оглядела улицу.
– Мне надо на рынок, – сказал он, не глядя на меня. Выключил мотор и обошел фургон. Открыл пассажирскую дверь и потянулся за рюкзаком, который лежал у меня на ботинках. Его грудь коснулась моих колен, и, когда он выпрямился, холодный порыв декабрьского ветра остудил жар между нами. Я вышла из машины и схватила рюкзак. Так все и кончается, подумала я: пленками с фотографиями цветочной фермы, куда я не вернусь никогда. Я уже скучала по цветам, но скучать по Гранту себе не позволила.
Я вернулась в Потреро-Хилл на четырех автобусах, но лишь потому, что села на тридцать восьмой не в ту сторону и укатила в Пойнт-Лобос. В «Бутон» я явилась около девяти; Рената как раз открывалась. Увидев меня, она улыбнулась.
– Две недели ни работы, ни тебя, – проговорила она. – Чуть не сдохла со скуки.
– Почему никто в декабре не женится? – спросила я.
– Голые деревья и серое небо – разве это романтично? Все ждут весны и лета, голубого неба, цветов и отпусков.
Я лично считала, что голубой так же неромантичен, как и серый, и яркий солнечный свет портит фотографии. Но у невест не было логики; если я чему и научилась у Ренаты, так хоть этому.
– Когда тебе нужна помощь? – спросила я.
– В Рождество большая свадьба. А потом – каждый день до первых январских выходных.
Я кивнула и спросила, во сколько приходить.
– В Рождество? Можешь поспать. Свадьба вечером, а цветы я куплю накануне. Только не позже девяти.
Я снова кивнула. Рената достала из кассы конверт с деньгами:
– С Рождеством тебя.
Позднее, в голубой комнате, я открыла конверт и увидела, что она заплатила мне вдвое больше, чем обещала. Будет на что купить подарки, подумала я, мысленно скривившись, и сунула деньги в рюкзак.
Почти всю премию я потратила на ящик пленки на оптовом складе фототоваров, а что осталось – в магазине для художников. Я решила, что мой словарь будет не книгой, и купила две обтянутые тканью коробки для фотографий – оранжевую и голубую, – черные карточки для картотеки, пять на семь дюймов, клей для фотографий с распылителем и серебряный фломастер.
До Рождества оставалось десять дней. В занятиях фотографией я сделала перерыв, снимала лишь свой запущенный сад в парке Маккинли. Вереск и гелениум выжили, невзирая на плохую погоду и отсутствие ухода. У Гранта я отсняла двадцать пять пленок, и все десять дней ушли на то, чтобы проявить пленку, отсортировать фотографии, наклеить их на картон и подписать. Под каждым снимком я написала общепринятое название, затем латинское, а на обороте – значение цветка. Для каждого цветка я изготовила карточки в двух экземплярах и положила по одной в обе коробки.
В канун Рождества картотека была готова. Наталья с группой уехали туда, куда люди обычно уезжают в праздники, и в квартире воцарилась роскошная тишина. Я отнесла вниз коробки с картотекой и разложила снимки на полу пустой репетиционной аккуратными рядами, оставив между ними промежутки, чтобы можно было ходить. Карточки из оранжевой коробки положила картинками вверх, а из голубой – картинками вниз. Часами я ходила по комнате, сперва раскладывая в алфавитном порядке цветы, а затем – значения. Потом убрала карточки в коробки и открыла цветочный справочник, принадлежавший Элизабет, чтобы насладиться проделанной работой. Середина зимы, а мой иллюстрированный словарь был готов наполовину.
В пиццерии в начале квартала почти не было клиентов. Заказав пиццу навынос, я съела ее на кровати Натальи, глядя на пустую улицу. Доев, легла на пол голубой комнаты. Хотя в доме было тихо, тепло и темно, мои глаза то и дело открывались. Полоска бледного белого света от уличного фонаря, светившего в комнату Натальи, пробивалась сквозь щель в двери бывшего чулана. Она была тонкая, как карандаш, и рисовала линию на стене, освещая центр коробок. Голубая была точно такого цвета, как стены, а оранжевая стояла сверху, и создавалось впечатление, будто она парит в воздухе. В этой комнате она выглядела лишней.
Эта коробка должна была стоять в книжном шкафу Гранта напротив оранжевого дивана. Я нарочно выбрала такой цвет, хоть и не желала себе в этом признаваться. Но Гранта не было. Необходимость избегать разночтений в языке цветов отпала, но я все равно купила лишнюю коробку, оранжевую коробку, и изготовила набор в двух экземплярах. Отперев игрушечную дверь, ведущую в гостиную, я выставила коробку в другую комнату.


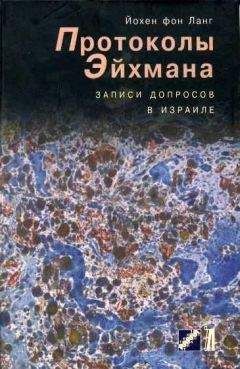
![Генрих Бёлль - Избранное [ Ирландский дневник; Бильярд в половине десятого; Глазами клоуна; Потерянная честь Катарины Блюм.Рассказы]](/uploads/posts/books/121756/121756.jpg)
