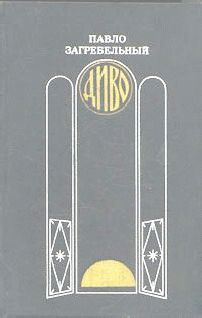Павел Загребельный - Южный комфорт
Материал на Вербового в прокуратуру передало статуправление. Вина его состояла в том, что он отчитывался за выполнение плана в данном квартале, а на самом деле плановые машины давал только в квартале следующем. Для чего это делал директор? Чтобы обеспечить рабочим выплату премий. За два года было получено свыше 12 тысяч рублей премий, на долю директора выпало 269. Нечестность? С точки зрения статистиков, строго придерживающихся своих инструкций, да. С моральной точки зрения - тоже. Но ведь продукция была. Твердохлеб все перепроверил и убедился, что количество сданных машин согласно приемо-сдаточным актам соответствует отчетным данным по форме I-II.
Может, не привлекать Вербового к уголовной ответственности, а сделать представление в его дисциплинарном наказании? Казалось бы, достаточно для человека, только начинающего свой жизненный путь. Но тут появился журналист (в отличие от Пшеничного, фамилия у него была птичья) и загремел на всю республику фельетоном и против Вербового, и против Твердохлеба (правда, фамилия Твердохлеба не называлась, о нем упоминалось просто как о следователе). Журналист писал правду: "И тогда Вербовой подсчитал, сколько машин не хватает до плана, и вписал соответствующую цифру в соответственную графу. Графа заиграла, а вслед за тем заиграл оркестр на торжественном собрании по случаю успешного выполнения плана.
Ясное дело, такая акция повлекла за собой распределение премий в сумме семи тысяч девяноста четырех рублей, из которых директору Вербовому досталось 127 целковых".
О следователе было написано так:
"- Я из прокуратуры, - сказал следователь, - покажите-ка, что там у вас за приписки.
И углубился в документы.
- Ах, вот это! Так это же совсем не приписки, это просто перенесение работ из одного месяца в другой".
Говорят, правда убивает. Но неполная правда убивает во сто крат больше и сильнее. Журналист закончил свой фельетон как раз там, где Твердохлеб только начинал свои выводы по делу Вербового, но кто же знал об этих выводах? А фельетон читали все. Не дожидаясь дальнейшего развития событий, Твердохлеб, хоть как неприятно ему было решиться на это, отправился к Савочке.
- Я могу опровергнуть все написанное этим журналистом! - заявил он Савочке.
- А кто хочет быть опровергнутым? - спросили его с мягкой улыбочкой. Сынок, прокуратура - это не французский парламент. Мы не можем раскачивать свою лодку, потому что утонем. Пока преступление свежо, возмущение и глас народа сильнее голоса милосердия и мольбы обвиненных. Справедливость обязана торжествовать, а личность преступника проваливаться в небытие.
- Так, может, мне подать заявление об уходе? - спросил Твердохлеб.
- Об этом тебе скажут тогда, когда возникнет необходимость, сынок, был ответ.
Тогда он удержался на волоске. Дело против Вербового возобновили. Состоялся показательный суд, который определил Вербовому показательную меру наказания - десять лет лишения свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима с конфискацией имущества.
Твердохлебу хотелось тогда найти того журналиста с птичьей фамилией и спросить: "Ну как? Вы довольны?"
Твердохлебу поручалось все, что требовало распутывания, терпеливого, канительного докапывания до истины, почти отчаянного барахтания в трясине затаенности, плутовства и враждебности. Он не принадлежал к тем, кто умеет разрубить любое дело одним ударом меча, торопливость считал вредной, а то и преступной, к этому потихоньку все привыкли, поэтому и спихивали на Твердохлеба самые безнадежные случаи. Это Отбирало время и терпение. А человек, у которого отобрано время, уже не принадлежит ни своим желаниям, ни привычкам, ни склонностям.
Теперь вот еще один журналист, но этот уже выступает с позиций милосердия. Может, встретиться с ним? А что ему сказать? Что он чересчур торопливый? Что, вмешиваясь преждевременно и неуместно, совершает поступок, который не дозволен в нашем государстве никому (но который все же люди себе часто позволяют)?! Что он слишком плохого мнения о работниках прокуратуры, для которых главное всегда и прежде всего - не обвинить, а понять, выяснить истину. Следует ли торопиться возбуждать общественное мнение вокруг этого случая?
А может, встретиться с Пшеничным и спросить его, как бы он себя повел, если бы его зарплату три года выплачивали такому же шутнику, как Дубограй? Беря не принадлежащее тебе, отбираем у других. А этого делать не следует. Вроде бы просто, но, к сожалению, не все это хотят понимать. Или, может быть, журналисты далеки от таких мыслей?
Мысли для собственного употребления, намерения, не переходящие в действие. Твердохлеб доводил до конца дело с тупиком, не пытаясь встретиться с журналистом, вполне довольствуясь "встречей" и "разговорами" воображаемыми.
Возможно, хотел этим хотя бы немного смягчить суровую реальность своей жизни?
Он жил в такой невыносимой реальности, ежедневно прикасаясь к боли и злу, что душа уже не выдерживала и хотелось придумать что-то для облегчения. Может быть, и ту молодую женщину из магазина на Крещатике он придумал? Воспользовался приемом вульгарных киевских приставал, которые пишут девицам свои телефоны на денежных знаках, а затем разрывают банкнот: вторую половину, дескать, получишь после свидания. Стыдно было вспомнить свой поступок, но и ту смуглую женщину забыть не мог. Смуглая, как кофейное зерно. Словно южная ночь из арабской сказки. Собственно, какие только глупости не лезут в голову взрослому, серьезному человеку! Или это просто галлюцинации от переутомления, цветная гамма, раздражение сетчатки глаза, которое вызывает вспышки памяти, болезненные и в то же время сладкие?
Дома разговоры напоминали ходьбу на цыпочках. Все замерло, притаилось, чего-то выжидая, только Мальвина не скрывала презрения к своему мужу, а перед женским презрением Твердохлеб чувствовал себя бессильным и беззащитным еще больше, чем перед Савочкой.
Да к тому же еще - летом. Осенью было бы легче. Осенью он нашел бы маленького Валеру, и все на свете стало бы проще. Осенью в киевских скверах шелестят золотые листья, и в них играют дети. Святые существа. Как они его называли? Дядя Твердюня? Хотя был он с ними мягок, добр и никогда бы они не догадались, в каком жестоком мире он живет. Что страшнее всего на свете? Дети, играющие в коридорах суда в то время, как их родителей берут под стражу. У него не было детей собственных, не подарила судьба, но чужие дети давали ему то, чего не мог дать никто на свете.
Началось все с маленького Валеры год назад.
Твердохлеб шел на работу пешком по улице Ярославов Вал, осеннее утро было довольно прохладное, все прохожие, которых он встречал, поеживались, приподнимая плечи, и тут вдруг впереди на тротуаре возник маленький мальчик, одиночество и обреченность которого в такой холод казались особенно дикими. Это напоминало какой-то тяжелый сон. Холодное утро, холодно белеют по обе стороны улицы модерные здания иностранных консульств, немногочисленные озабоченные прохожие, и среди них на узеньком тротуаре одинокий маленький мальчик. Узенькие серенькие штанишки, серенькая плотная курточка, руки засунуты в мелкие карманчики штанишек, локти прижаты к бокам - и ступает, ступает упрямо и независимо, покачивается у Твердохлеба перед глазами, словно маленький столбик - туда-сюда, туда-сюда...
Твердохлеб ускорил шаг, догнал малыша. Какое-то время шел рядом, чтобы приучить его к себе, не напугать неожиданным обращением, затем спросил доброжелательно:
- В садик?
Малыш вскинул на него глазки, но шаг не замедлил и с шага не сбился.
- Угу, - ответил кратко.
- А что же ты, брат, один? Где мама?
- На работе.
- А папка?
- Спит после работы.
Напоминало детство Твердохлеба, его даже одолел страх. Неужели такое может повторяться? Только и того, что он тогда в садик не ходил: не было поблизости садика, не хватало их после войны.
- И далеко тебе идти? - осторожно расспрашивал.
- На Ярославов Вал.
- Мы же как раз по ней идем.
- А я знаю. Наш садик - сразу как пройти светофор на зеленый свет.
- Не возражаешь, что я иду с тобой?
- А что?
- Если хочешь, мы можем с тобой ходить каждое утро. Все равно мне так идти на работу.
- Не знаю, - сказал малыш. - Вы же чужой дядя.
- Ну, тогда давай познакомимся. Меня зовут дядя Федя. А тебя?
- Я - Валера.
- Так, Валера или Валерьян?
- Нет, Валера.
- Ладно. В садике у тебя воспитательница очень строгая?
- Нина Ивановна добрая.
- А если бы я с тобой туда пришел, она бы не ругалась?
- Разве я знаю?
- А ты не был бы против?
Валера посмотрел на Твердохлеба недоверчиво, но не без интереса. Его немного пугала навязчивость этого незнакомого дяди, но, видимо, чувствовал он доброту Твердохлеба, и уже в детской душе зарождалось чувство расположения к этому взрослому человеку, которое со временем должно было перерасти в их крепкую дружбу.