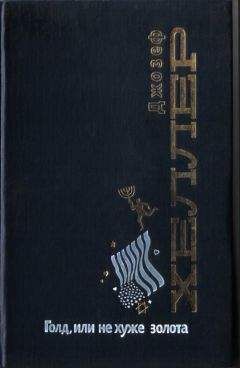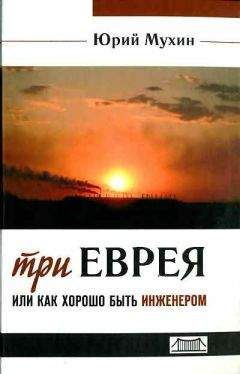Айрис Мердок - Лучше не бывает
— Ну и?
— Они принадлежали, действительно, левше и, насколько я могу судить, находятся именно там, где должны быть. Но из этого еще рано делать окончательные выводы, во всяком случае, он держал револьвер так, что мог произвести выстрел. Теперь, Биран говорил, что трогал револьвер. Как он сказал об этом? Казался ли он нервничающим, потрясенным?
— Да! — сказал Октавиен. — Но мы все здорово нервничали и все были потрясены! Мы не привыкли к внезапным смертям после ланча.
— Естественно. Итак, отпечатки пальцев Бирана были найдены только на стволе револьвера. Ты помнишь, что у него взяли отпечатки пальцев?
— Да.
— Я вот что подумал. Ведь может быть, что он застрелил Рэдичи, стер свои отпечатки, вложил револьвер в руку Рэдичи. Тогда ясно, зачем ему понадобилось запереть дверь.
— Нет. Если бы он сообразил вложить револьвер в руку Рэдичи, он сообразил бы и оставить револьвер слева, а не справа.
— Правда. И это выводит Бирана из игры. Если только тут не таится дьявольская хитрость…
— Нет, нет. Я не верю в такие вещи. Хорошо, продолжим. Потом у меня возникла одна мысль. Ты помнишь, что Рэдичи носил старомодные накрахмаленные воротнички?
— Да.
— Отпечатки Бирана были на воротничке Рэдичи.
— На воротничке? Ты думаешь, они боролись или…
— Сомневаюсь в этом. Следов борьбы не найдено. Я думаю, это означает, что Биран двигал тело.
— Это странно. И об этом он ничего не говорил. Зачем бы…
— Ты помнишь, — сказал Дьюкейн, — что удивлялся тому, что не нашли предсмертной записки, это казалось не соответствующим привычкам Рэдичи?
— Ты думаешь… Ты думаешь — Биран обыскивал тело и забрал записку?
— Ну, это возможно. Если Биран и Рэдичи были связаны чем-то, то Биран мог бояться того, что найдут на теле убитого. Он обыскал тело, я уверен, в поисках записки или чего-то еще. Ошибка с револьвером доказывает, что Биран был захвачен врасплох. Он запаниковал, он знал, что в его распоряжении несколько мгновений, запер дверь — довольно опасное предприятие, скажу я тебе — а потом… Можно легко представить, случайно задел револьвер, откинул тело к спинке кресла, чтобы обыскать карманы. Затем, снова вернув тело в первоначальное положение, положил револьвер с правой стороны.
— Может быть, может быть, — сказал Октавиен. — Я все время думал, хотя я не думал на самом деле — это просто смутно проскользнуло в моей голове — как аккуратно револьвер лежал возле правой руки. Он мог упасть куда угодно, но только не туда.
— Да, — сказал Дьюкейн печально. — Я тоже думал об этом. Я оказался, надо признаться, не слишком сообразительным, Октавиен. Я должен бы сразу заметить, что револьвер лежит не с той стороны, и если бы я был там, я бы заметил, по фотографиям это труднее понять.
— Но разве не странное совпадение, что именно Биран оказался ближе всех, когда это случилось? Насколько мы можем быть уверены… Биран не убивал его, это — ужасная мысль, и я так не думаю, но все это странно.
— Мы не можем быть уверены, но я не верю, что Биран убил его. Если бы он это сделал, он либо вложил бы револьвер в правую руку Рэдичи, либо положил бы его с левой стороны на стол. Он не мог сделать одно правильно, а другое неправильно. Я не верю в это никоим образом. Что касается совпадения — что ж, это могло быть совпадением. Разве только Рэдичи сделал это внезапно под влиянием того, что Биран сказал ему. Мы ведь не знаем, был ли Биран в комнате до выстрела. Или Рэдичи хотел заставить Бирана смотреть, как он делает это.
— Это жутко, — сказал Октавиен. — И как-то несообразно. Рэдичи не знал ничего, относящегося к государственным секретам, но Биран знал практически все наши хитрости. Что же они замышляли?
— Нет, дело не в этом, — сказал Дьюкейн. — Я полагаю, это что-то гораздо более странное, что-то связанное с магией, которой Рэдичи занимался.
— Мак-Грат не рассказал, чем Биран, собственно, занимался дома у Рэдичи?
— Нет. Мак-Грат просто видел его там. Я думаю, Мак-Грат говорил правду. Я его припугнул немного.
— Надо его как следует еще раз потрясти.
— Я уже вытряс, думаю, все что возможно.
— А что думают ребята из Скотленд-Ярда? Не хотят ли они сами заняться этим?
— Они не знают. Я сам взял отпечатки. Я наплел им всякую ерунду…
— М-м. Смотри. Как бы не нажить неприятности потом!
— Дай мне разобраться с этим, Октавиен. Мы расскажем все полиции, но не сейчас. Не хочу, чтобы Бирана сейчас вспугнули.
— Ты собираешься попросить его дать объяснения?
— Пока нет. Я хочу все делать последовательно. Мне нужна другая нить. Мне нужна Елена Троянская. Она сейчас — недостающее звено.
В час пик «Бентли» Дьюкейна медленно двигался по выпуклым терракотовым плитам Молла. Плотные облака жары кружились над ползучим шумом машин, бросая клочья дымки на неподвижные деревья Сент-Джеймс-парка, в котором уже слегка увядала прелесть лета. Было одно из мгновений, когда над Лондоном проносится вздох вялого отчаяния. Бессмысленность летнего Лондона ужасна, ее только подчеркивают туманы или ранние сумерки, летняя тоска, остекленевшие глаза, переполненный кошмарами короткий сон в надоевшей, вызывающей отчаяние комнате. С этой тоской зло, крадучись, входит в город, зло безразличия, сонливости, отсутствия любви. В такое время люди поддаются искушениям, с которыми стойко боролись раньше, а преступление, о котором долго мечтали, наконец, с удивительной легкостью совершается.
Дьюкейн, сидевший на переднем месте рядом с Файви, чувствовал, как эти миазмы сползают на него с людных мостовых, пролетающих мимо медленно, как во сне. Все в его жизни стало низким, разорванным, гротескным. Он солгал Джессике. Он сказал ей, что вечерние совещания в конторе мешают ему навестить ее на этой неделе. Он обещал, что они увидятся на следующей. Он чувствовал, что Джессика все больше загоняет его в угол, как будто бы девушка была некой запутывающей его силой, которая все росла. Бывали мгновения, когда он почти цинично мечтал: ну, так расти же, сделай из меня зверя, сделай из меня демона и надели демонской силой. Но явное зло, порождавшее эти мысли, пугало его и возвращало к привычному, простому смятению.
Его стремление увидеть Кейт выросло к этому времени до тревожащих его самого размеров, стало таким интенсивным, что он даже чуть было не приказал Файви ехать утром в Дорсет вместо Скотленд-Ярд. Однако он совершенно ясно представлял себе, что поступок такого рода может уродливо и, возможно, непоправимо разрушить тот гармонический образ, который Кейт втайне взлелеяла, в который поверила сама. В его отношениях с Кейт сложилась какая-то невинная и милая непринужденность, все проблематичное, даже просто неожиданное, исключалось из них. Между ними могло быть большое чувство, даже глубокая любовь, но никаких безумств. Была и потребность друг в друге, но уравновешенная, предписанная, а не пренебрегающая всем на свете необходимость видеть друг друга. Каким непрочным казался ему теперь этот золотой круг, определявший его существование теперь, ради которого он убил любовь Джессики. Не знаю, следует ли рассказать Кейт все о Джессике, он сомневался, и с неким élan[15] к освобождению представлял себя стоящим на коленях перед Кейт, склонившим голову на ее колени. Но нет, подумал он, это страшно ранит ее, и, подумал он мрачно, я тогда предстану перед ней наполовину лжецом. Я должен сказать ей, но позже, позже, позже — когда все будет кончено и прекратится эта агония. Сказать сейчас — значило бы пойти против правил, ее правил. Я не должен вовлекать Кейт во все эти хитросплетения. Она представляет наши отношения простыми и солнечными, и я не должен обмануть ее ожиданий, я должен сделать их простыми и солнечными.
Дьюкейна потрясло открытие насчет Бирана — больше, чем он показал это Октавиену. Ему совсем не улыбалось копаться в человеке, к которому он по непонятным причинам испытывал необъяснимую неприязнь. На какой-то момент Дьюкейн потерял — возможно, это было следствием летней вялости — обычное чувство собранности и значительности, он уже не мог показывать миру в своем лице образ вдумчивого труженика. Он жалел себя, он был уязвим и раним. В таком состоянии кто угодно может «ворваться в его душу», вонзить нож и повернуть. Это было одной из причин, почему он боялся оказаться лицом к лицу с Джессикой. Ведь Джессика могла причинить ему огромную боль, и только ее слепая любовь удерживала ее до сих пор от этого. Он знал, что если придет к ней в этом обнаженном, ослабленном состоянии, то она инстинктивно замучает его до крайности. Дьюкейну не нравилось и то, что отныне Биран — его противник. Он весь съежился при мысли о том, чтобы применить власть к этому человеку. Что бы ни связывало Бирана и Рэдичи — это было что-то неприятное и, как предчувствовали тонкие ноздри Дьюкейна — жутко неприятное. Что бы ни случилось, казалось весьма вероятным, что Дьюкейна скоро вовлекут в личную схватку с Бираном, а для этого он чувствовал себя сейчас недостаточно сострадательным, ясно мыслящим, да и попросту сильным.