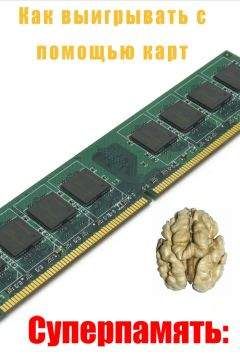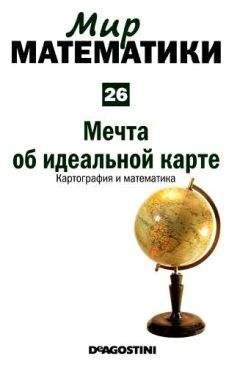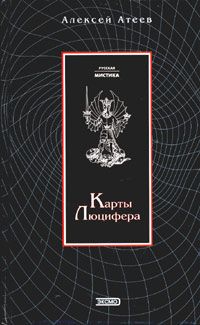Джоанн Харрис - Остров на краю света
По мере продвижения нашей работы состояние моего отца улучшалось невероятными темпами. Он уже не проводил столько времени на Ла Буш; вместо этого он наблюдал за строительством, хотя редко принимал в нем участие. Я часто видела его — фигура на гребне дюны, очертаниями подобная валуну, плотная, недвижная. Дома он чаще улыбался и несколько раз даже говорил — односложными словами. Даже в молчании его я почувствовала перемену, и в глазах у него убавилось пустоты. Порой он долго не ложился по вечерам, слушая радио или наблюдая, как я делаю наброски в альбоме. Раз или два мне показалось, что мои рисунки лежат в беспорядке, словно их кто-то просматривал. После этого я стала оставлять альбом на виду, чтобы он мог смотреть, когда захочет, хотя при мне он этого никогда не делал. Это уже начало, говорила я себе. Даже Жан Большой, казалось, стоял на пороге перемен.
И конечно, Флинн. Я не заметила, как это случилось, — без видимых симптомов, понемногу мои защитные сооружения постепенно размыло, и я, захваченная врасплох, не поняла, что произошло. Я вдруг ловила себя на том, что смотрю на него, сама не зная почему, изучаю выражение его лица, словно готовясь писать портрет, ищу его глазами в толпе. С того утра после ночи чудес мы почти не говорили друг с другом, но все равно, кажется, между нами что-то произошло. Во всяком случае я так думала. Стечение обстоятельств. Я замечала какие-то вещи, которых не замечала никогда раньше. Нас случайно сводило за работой; мы вместе пыхтели, складывая шины в столбик; нас обоих промачивало до нитки брызгами приливной волны, пока мы закрепляли звенья на месте. Мы вместе пили у Анжело. И у нас была тайна. Она связывала нас. Делала нас участниками одного заговора, почти друзьями.
Флинн хорошо умел слушать, когда нужно, и сам был неистощим на смешные анекдоты и всякие небылицы — про Англию, Индию, Марокко. По большей части его россказни были чепухой, но он попутешествовал; видел страны и людей, блюда и обычаи, реки и птиц. Через него я словно тоже путешествовала по свету. Но мне ни разу не удалось проникнуть в потайную часть его души, запертый отсек, куда меня не звали. Я не понимала, почему меня это беспокоит. Если б он спросил, что мне от него надо, я бы затруднилась с ответом.
Жилье, обустроенное в старом блокгаузе, было удобным, но все же импровизированным. Большое внутреннее помещение, вычищенное и побеленное им, окно на море, стулья, стол, кровать — все построено из выброшенного волнами мусора. Обстановка резала глаз, но все же была чем-то приятна, как и он сам. В оконную замазку были вдавлены ракушки. Стулья сделаны из автомобильных шин, крытых парусиной. С потолка свисал гамак, когда-то бывший рыболовной сетью. Снаружи жужжал генератор.
— Просто невероятно, как вы преобразили это место, — заметила я, оказавшись у него впервые. — Раньше тут был бетонный куб, наполненный песком.
— Ну, я же не мог навсегда остаться у Капуцины, — сказал он. — Люди уже начали поговаривать.
Он задумчиво обводил ногой узор из раковин, выложенный в бетонном полу.
— Неплохая нора для потерпевшего кораблекрушение? — заметил он. — Уютно, как дома.
Мне почудилась в его голосе тоскливая нотка.
— Потерпевший кораблекрушение? Вы себя так видите?
Флинн засмеялся.
— Забудьте об этом.
Я не забыла, но я знала, что невозможно заставить его говорить, если он не хочет. Однако его молчание не мешало мне предаваться догадкам. Может, он приехал на остров, прячась от каких-то неприятностей с законом? Это было возможно; люди типа Флинна всегда в конце концов берут слишком круто к ветру, а я часто спрашивала себя, как это его вдруг занесло на Колдун — остров настолько маленький, что едва заметен на карте.
— Флинн, — сказала я наконец.
— Да?
— Где вы родились?
— Моя родина очень похожа на Ле Салан, — беспечно сказал он. — Маленькая деревушка на побережье Ирландии. Там был пляж и очень мало что еще.
Значит, он не англичанин. Интересно, какие еще из моих предположений окажутся ошибочными.
— Вы когда-нибудь там бываете?
У меня, похоже, никак не укладывалось в голове, что человеку может быть все равно, где он родился, и я думала, что у Флинна должно быть что-то похожее на мою тягу к дому.
— Там? Господи, нет, конечно. Что там делать?
Я посмотрела на него:
— А тут что делать?
— Искать пиратский клад, — загадочно произнес Флинн. — Миллионы франков... целое состояние... в дублонах. Как только я его найду, меня здесь уже не будет: фффу! — и нету. Здравствуй, Лас-Вегас.
Он расплылся в ухмылке. Но мне снова показалось, что в голосе его звучит смутная тоска, почти сожаление.
Я опять оглядела комнату и впервые заметила, что, несмотря на бодрую пестроту обстановки, тут не было ни одной личной вещи: ни единой фотографии, ни книги, ни письма. Я сказала себе: он может завтра выйти отсюда и не оставить ни единого намека на то, кто он такой и куда ушел.
7
Следующие две недели принесли с собой сильные приливы и ветра. Три дня мы не могли работать из-за погоды. Луна росла, превращаясь из узкого серпика в ломоть. Полная луна в равноденствие всегда приносит шторма. Мы знали это и стремились обогнать ее растущий профиль.
Бриман с моего визита в «Иммортели» хранил нетипичное для него молчание. Однако я ощущала его любопытство, его настороженность. Через неделю после моего визита он прислал мне цветы и записку, а также приглашение в любой момент переехать в гостиницу, если ситуация в Ле Салане обострится. Он, кажется, ничего не знал о нашей работе, но предполагал, что я провожу все время, обустраивая дом для Жана Большого. Он хвалил меня за то, что я такая преданная дочь, и при этом умудрялся выразить глубокую обиду и сожаление, что я ему не доверяю. В заключение он выражал надежду, что я ношу его подарок, и желание вскорости увидеть меня в этом платье. На самом деле красное платье лежало, не завернутое, на дне моего гардероба. Я не осмеливалась его примерить. Кроме того, работы по сооружению рифа близились к завершению, и мне было просто не до платья.
Флинн погрузился в проект с головой. Как бы самозабвенно ни работали мы все, Флинн всегда был в гуще дела — перекладывал грузы, проводил испытания, изучал свои чертежи, пропесочивал нерадивых работников. Он никогда не уставал; даже когда приливы начались на неделю раньше, он не пал духом. Можно было подумать, что он тоже саланец, воюющий с морем за свой клочок земли.
— А когда это вы вдруг прониклись таким энтузиазмом? — спросила я у него как-то поздно вечером, когда он в очередной раз задержался в лодочном сарае, чтобы проверить крепления уже законченных звеньев. — Сами же мне говорили, что это бессмысленно.
Мы были одни в сарае, явно недостаточно освещенном единственной дребезжащей неоновой трубкой. Здесь царил запах машинного масла и резины от шин.
Флинн прищурился на меня с верхушки звена, которое в данный момент проверял.
— Вы чем-то недовольны?
— Конечно нет. Просто интересно, что это вы вдруг передумали.
Флинн пожал плечами и откинул челку с глаз. Неоновая лампочка обдавала его резким светом, окрашивая волосы в невозможный красный цвет и делая лицо еще бледнее.
— Вы мне подали идею, вот и все.
— Я?
Он кивнул. Я преисполнилась смешной гордости оттого, что послужила катализатором.
— Я понял, стоит чуть-чуть помочь Жану Большому и остальным, и они довольно долго смогут сами справляться с жизнью в Ле Салане, — сказал он, зажимая плоскогубцами крепление на куске авиационного кабеля. — Вот я и решил их слегка подтолкнуть.
«Их». Я заметила, что он никогда не говорит «мы», хотя его приняли как своего и гораздо легче, чем меня.
— А что же вы? — неожиданно спросила я. — Вы останетесь?
— На какое-то время.
— А потом?
— Кто знает.
Я смотрела на него несколько секунд, пытаясь измерить глубину его равнодушия. Места, люди — кажется, ничто не оставляло на нем отпечатка, будто он двигался сквозь жизнь, словно камень сквозь воду, чистый, нетронутый. Он слез со звена, вытер начисто плоскогубцы и положил в ящик для инструментов.
— У вас усталый вид.
— Это свет такой.
Он опять смахнул волосы с лица, оставив на нем полосу машинного масла. Я ее стерла.
— В нашу первую встречу я записала вас в пляжные бездельники. Я была не права.
— Очень мило с вашей стороны.
— И еще я ни разу вас не поблагодарила. Вы столько сделали для моего отца...
Ему явно стало не по себе.
— Не стоит благодарности. Он меня пустил жить в блокгауз. Я же должен был это отработать.
В словах Флинна был оттенок окончательности, намекающий, что любые дальнейшие выражения благодарности нежелательны. И все же мне почему-то хотелось задержать его.
— Вы никогда не рассказываете о своих родных, — сказала я, натягивая край брезента на законченное звено.