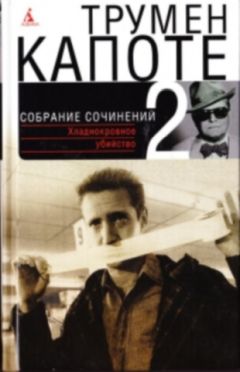Ирина Майорова - Метромания
Колян собирался познакомить Макса с еще одним легендарным членом общины – стариком афганцем, которого здесь зовут Адамычем.
Об Адамыче Колян рассказывал с уважительным восхищением:
– У него за спиной одиннадцать ходок! Первый раз на зону в пятнадцать лет попал и был уже таким классным щипачом, что кум его своим гостям как номер художественной самодеятельности демонстрировал. Вместо фокусника. К нам Адамыч прибился, когда восьмой десяток разменял. Попервости казалось, развалина, ни на что не годная… Сидел целыми днями, папиросы одну за другой смолил и материл кого-то на чем свет стоит. Оказалось, ментов, которые не дали ему как человеку на зоне помереть. Для него ж тюрьма – дом родной, тем более что настоящего дома никогда и не было. Родился в начале тридцатых, в войну без родителей остался, прибился к какой-то шайке, которая воровством промышляла, а с тринадцати лет стал индивидуальным промыслом заниматься. Специализировался как вор-карманник, а такая профессия наличия коллектива, сам понимаешь, не предполагает.
По словам Коляна, карманником Адамыч был виртуозным и в тюрьму попадал только по собственной воле. Когда хотелось пожить без забот о крове и хлебе иль подлечиться, грубо тырил кошелек у какого-нибудь лоха на глазах у ментов и позволял взять себя с поличным. Последние лет двадцать назначенные судом сроки отбывал, можно сказать, с комфортом. В середине восьмидесятых в Мордовии, в поселке Леплей, организовали колонию для иностранцев и лиц без гражданства, а поскольку Адамыч советско-российского подданства никогда не принимал, то был ее «железным» контингентом. Зона эта, не в пример обычным, даже в начале девяностых, когда вся страна впроголодь жила, не бедствовала. А как же иначе: сидельцы-то – иностранцы! Хоть и преступники, на территории России злодеяния совершившие, но все же… Вдруг они в письмах родным или послам-консулам пожалуются, что в кашу масла недокладывают или мяса мало дают, в библиотеку пресса на их родном языке с опозданием доходит, а футбольный турнир уже полгода не проводился? Тут международным скандалом пахнет.
Вот в этой замечательной зоне Адамыч и намеревался дожить последние годочки – тихо, мирно, при уважительном отношении конвоиров и доброй заботе соседей по бараку. Готовясь к последней ходке, Адамыч раздал на воле все долги, наведался в мечеть. Сначала все шло по плану: взяли с поличным, состоялся суд, приговоривший старика – с учетом прошлых заслуг – к семи годам лишения свободы. А потом случилось непредвиденное: Адамычу заявили, что зона в Леплее ему не светит. Дескать, по причине полной распахнутости железного занавеса в страну столько иностранного жулья, наркодилеров и насильников хлынуло, что элитная колония и без старых пердунов по швам трещит. Короче, мест нет. И отправили Адамыча в интернат для рецидивистов-инвалидов. Старый карманник о таких заведениях и царящих там нравах был наслышан, а потому решил: лучше умереть под забором.
«Санаторий», в который ему выписали путевку, находился где-то в средней полосе. В качестве транспорта был избран не спецвагон, а обычный, пассажирский в самом что ни на есть задрипанном поезде. Для сопровождения матерого вора-рецидивиста – ввиду его преклонных лет и сильно пошатнувшегося здоровья – отрядили юного сержантика. Во время первой же длительной стоянки, когда конвоир отлучился на перрон купить то ли мороженого, то ли семечек, Адамыч рокировался в соседний вагон, оттуда соскочил на перрон и затерялся в привокзальной толпе. Сбежал. Что было за недосмотр сержантику, неведомо, а Адамыч на перекладных вернулся в Москву. Стояла осень с холодными, промозглыми ночами, и карманник высшего класса впервые за многие годы был вынужден ночевать под открытым небом. Ему бы тиснуть у кого-нибудь «шмель», чтобы разжиться деньгами на оплату квартиры, комнаты или даже койки. Но он боялся, потому что знал: если засветится, «санатория» с концлагерными порядками ему не избежать. Вдругорядь такого легкомысленного конвоя ему уже не дадут.
Проночевав три ночи в Битцевском парке, Адамыч заработал жесточайший бронхит и уговорил тусовавшихся на импровизированном рынке у метро «Беляево» пацанов-беспризорников указать ему ближайший коллектор теплосетей, где он мог бы прогреть дыхалку. Те сжалились и свели его в сухой и теплый то ли бункер, то ли каземат, куда Адамыч, впрочем, едва добрался. Сначала пришлось спускаться хрен знает на какую глубину, а потом еще час тащиться по тоннелям, ходам, канализационным стокам. Но путешествие стоило того – дней через пять у Адамыча, которому пацаны натаскали таблеток, трав, меда, начала отходить мокрота, а еще через неделю он чувствовал себя лучше, чем когда садился с сержантиком в поезд.
Чтобы не быть дармоедом, Адамыч решил открыть школу юных воров-карманников, но вскоре понял бесперспективность своей затеи. Мало того что его благодетелям тонкости воровского ремесла были до фонаря, еще и объективно «материал» был никчемный. Мальчишки токсикоманили, курили травку и пили по-черному. А меж тем карманник – что твой чекист: голова должна быть холодная и ясная, руки ловкие и легкие (чистота необязательна, но ногти лучше постричь коротко, как у скрипача или пианиста, чтобы подушечки были открыты), а ноги – быстрые. Однако Адамыч не сдавался и в конце концов так надоел своими приставаниями, что пацаны свели его в «шарагу Митрича». Никаких переговоров по поводу передачи «ветерана», ни даже церемонии представления не было. Просто двое пацанов сопроводили деда до определенного места и сказали:
– Тебе все время прямо. Не боись, мимо не пройдешь. Все. Будь здоров, не кашляй!
Как уже было сказано, первые дни новенький только курил и матерился, но потом потихоньку включился в общинную жизнь, а еще через месяц заявил, что устал быть нахлебником и намерен работать. Но для успешного осуществления профессиональных обязанностей ему нужен хороший костюм, приличная обувь и французский парфюм. Все это община купила Адамычу в кредит, который карманник погасил уже через неделю.
На «службу» афганец выходил чисто выбритым, надушенным, в начищенных до блеска ботинках. Иначе нельзя, потому как теперь он работал исключительно по «чубайсикам» – так Адамыч именовал дорого одетых господ, из-за запруженности московского центра автомобилями вынужденных добираться до мест деловых встреч в метро. Таких с каждым месяцем становилось все больше, что не могло не радовать афганца и его подземных собратьев. Еще стоя на платформе, старый вор не только намечал жертву, но и острым глазом фиксировал, в каком именно кармане «селезня» лежит портмоне. В вагоне старался быть неподалеку, а потом, делая вид, будто пробирается к двери, на пару секунд тормозил возле «делового», который ничуть не настораживался от короткого соседства ухоженного, прилично одетого, пахнущего дорогой туалетной водой старичка. Еще через несколько секунд Адамыч выходил из вагона, сжимая в засунутой в карман (дна у кармана, понятное дело, не было – одна прорезь) руке толстенький бумажник. За два года Адамыч ни разу не попался, но время от времени возвращался домой вконец расстроенным. Такое случалось, когда он становился свидетелем топорной работы коллег по цеху.
Нынче был как раз подобный случай. Заглядывавший во все подряд пещерки Макс признал Адамыча сразу по хорошему, даже в каком-то смысле щеголеватому костюму, дорогому амбре, длинному, загибающемуся вниз хрящеватому носу – детали, которую Колян при описании внешности Адамыча счел самой существенной и отличительной. На появившегося на пороге его кельи Макса старик едва взглянул, продолжая что-то ворчать себе под свой раритетный нос.
– Добрый день! – еще раз, погромче, поздоровался Кривцов. – Я знакомый Митрича…
Снова никакой реакции. Афганец продолжал ворчать, роясь в большой сумке с продуктами.
– …Можно сказать, его лечащий врач, – добавил Макс с просительной улыбкой.
– Ну и лечи себе. Ко мне-то чего пришел? – пробурчал наконец дед.
– Да Митрич уснул, а я…
– А ты от скуки дохнешь, – подсказал Адамыч. – Заходи. Счас пошамаем.
Через пять минут, разливая по кружкам густой и черный, словно деготь, чай, он уже общался с Кривцовым, как с давним знакомым. Причем в душу не лез, с расспросами не приставал, говорил все больше о себе. И не о себе даже, а о вымирающем элитном ремесле карманника, ругал молодежь, которая ничего не умеет и учиться не хочет.
– Ну разве так делают, мать иху тудыт-растудыт! – ярился старик. – Еду сегодня в вагоне, вижу, стоит какой-то с наглой рожей, глазами туда-сюда стреляет, а сам на пальце брелок вертит. В одном боку штуковины этой, в торце, раз – и блеснет, раз – и блеснет. Бритву пристроил, шельмец! Я его сразу срисовал, а гражданам хоть бы что! Даже внимания не обратили. В такой давке, вместо того чтобы карманы и сумки держать, по журналам-книжкам чуть не носами водют: простору-то нет, чтобы сантиметров на двадцать чтение от глаз отнести… Ну, этот, смотрю, к какому-то мужику подошел и у задницы его зашебуршился. Вот еще один пример! Какой идиот кошелек в задний карман штанов кладет?! Его оттуда тиснуть – два пальца обмочить. Но это только если с умом, а не как этот олух, веретеном деланный. Гляжу краем глаза, что-то слишком долго он у задницы селезня торится. Тот очухался, головой завертел, обернулся, прошипел что-то. А тут как раз остановка, и недоумок этот шмыг из вагона. Я потом на зад-то мужика глянул: карман порезан, а из дырки угол «шмеля» торчит. Не смог, значит, вытащить. Еще бы, при таком-то надрезе! Он же бритвой по прямой резанул, а надо полукругом. И тогда только ладонь подставляй – «шмель» туда сам, как созревшее яблоко, упадет.