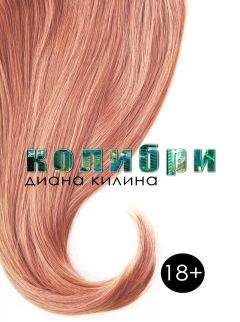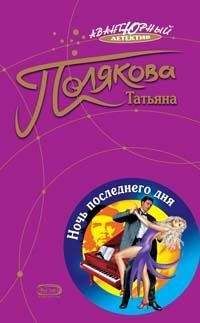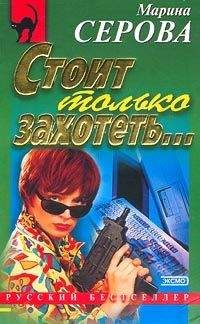Даниэль Кельман - Магия Берхольма
Если бы не больное место, язвящее, непреодолимое сомнение. Неужели это возможно? Не стал ли я жертвой непонятного, странно искусного обмана? То, что со мной случилось, обычно происходило только в ослепительных галлюцинациях. Или ты была не созданием моей воли и воображения, а чистой случайностью, всего лишь совпадением, незнакомкой из плоти и крови, только похожей на созданное с таким трудом дитя моих грез? Я собирался было спросить совета у ван Роде или даже у отца Фасбиндера, но потом передумал. Вероятно, они меня не поймут, или, еще того хуже, один из них поймет и несколькими короткими, ужасными в своей недвусмысленности фразами превратит все это в галлюцинацию, безумие, ошибку. Я не мог этого допустить, ни за что! Но сомнения никак не хотели меня покидать. Может быть, и Мерлин испытывал что-то подобное? Мог ли он поверить в то, что он – Мерлин? Где-то в глубине души он, вероятно, подозревал, что он – грезящий наяву безумец, самый жалкий из смертных, которому мнится, будто он возводил на престол королей и воздвиг Стоунхендж. Чего бы он ни отдал за уверенность в том, что он – Мерлин; но такую уверенность обрести нельзя. Никогда. Тем более волшебнику. Только раз я решился спросить тебя:
– Это правда ты? Ты существуешь? В самом деле?
Извини, но внезапно ты показалась мне нереальной. Был ясный день, ты надела летнее платье без рукавов, ветер рассеянно перебирал твои волосы, свет почти с нежностью гладил твое лицо и нарисовал два крошечных солнца на стеклах твоих очков.
– Ну конечно, – сказала ты, – странный вопрос.
– Я спросил только потому, – пробормотал я, – что я боюсь… что я… сошел с ума… Нимуэ, любимая Нимуэ, прекрасная дочь тайны и света, ты не должна была тогда смеяться! Как ты могла смеяться?
Именно в это время я удивительно, даже невероятно быстро делал карьеру. (За моим взлетом тоже скрывалось что-то неприятно напоминающее сны; он походил на одну из этих поспешных, весьма любительских смен декораций перед пробуждением.) Но все, казалось, складывается хорошо и наконец налаживается. Незаметный, но болезненный диссонанс все-таки перешел в аккорд.
Или нет? Да, тебя опять не удалось отвлечь. Как случилось, что ты так невосприимчива к моему искусству? Да, ты никогда не пыталась проникнуть в мои профессиональные тайны, при том что смогла бы сделать это без труда; я бы не долго сопротивлялся. Моя решимость избегать пещер, склепов и подвалов никогда не подвергалась серьезным испытаниям, потому что тебе никогда не приходило в голову меня туда послать. Как-то раз я попытался научить тебя незамысловатому фокусу, просто показать тебе, как находят карту, но ты оказалась ужасно непонятливой. Нет, ты не волшебница, а если волшебница, то очень хорошо это от меня скрыла. Прости, что ты сказала?
Ах да, ты задала мне вопрос. Зачем я вообще мучаюсь, зачем я притворяюсь, будто это твои реплики, ведь тебя здесь нет и, что бы я ни сказал, ты этого не услышишь! Может быть, именно поэтому. Я же понимаю, никто не прочтет этих строк, кроме меня и загруженного работой ангела в день воскресения всей плоти и всех рукописей, и это вынуждает меня быть честным. Значит, ты задала мне вопрос. Этот старый, избитый, бесконечно банальный вопрос – без него не может обойтись ни один посредственный роман, его устали повторять бледные кинозвезды.
Люблю ли я тебя? Любил ли я тебя когда-нибудь? Хоть когда-то, хотя бы секунду? Любовь; в сущности, мне всегда было непонятно, что значит это слово, если извлечь его из помойной ямы пошлости. Говорят, Бог любит нас, но я просто не в силах понять, как кто-то обладающий совершенным знанием может наблюдать за нами с иным чувством, нежели холодное, безучастное любопытство. Бог, писал Спиноза, не любит никого. Нет, я не ухожу от ответа на твой вопрос. Испытывал ли я когда-нибудь к тебе, к кому-нибудь или к чему-нибудь чувство, которое можно вместить в эти скромные и великолепные шесть букв? Честно говоря, не знаю. Я в этом сомневаюсь. Вместо истинной способности любить, неважно, христианской, языческой или какой-то Другой, я всегда находил в себе лишь бессмысленное и бесполезное участие, сострадание, внезапно охватывавшее меня при виде плачущего пятилетнего ребенка, пушистой собаки, привязанной у магазина и скулящей в отчаянии (а вдруг хозяин не вернется?), дворника с красным носом пьяницы или просто маленькой елочки, на которую навалился своей тяжелой тенью долговязый нахал, взрослый кедр. Вот такие мелочи, ну, может быть, еще что-то, о чем смешно и упоминать. А если это редчайший вид любви, тот, что Бог по временам испытывает – если вообще испытывает – по отношению к Своему творению? Но может быть, это глупая сентиментальность, не сравнимая ни с одним подлинным чувством. Клянусь жизнью, – а эта клятва сейчас немногого стоит! – я и вправду не знаю.
И поэтому ты меня оставила? Нимуэ, я, вероятно, открыл бы миру любую тайну, я последовал бы за тобою в любые темные и пыльные пещеры, даже если бы мне угрожала опасность быть там замурованным на целую вечность или дольше. Я сделал бы все, что в моей власти, и поверь, это было не так уж мало. Но явно недостаточно.
Где ты сейчас? Ты еще существуешь? У тебя действительно есть собственная жизнь, совершенно независимая от меня, жизнь без меня? Или ты снова вернулась в стихии, из которых я алхимическими превращениями и кропотливой лепкой создал тебя, – в летний ветер, весеннюю траву, полуденное небо и все остальное? Я даже не могу сказать наверняка, когда я тебя потерял; ты отдалилась от меня очень медленно, очень плавно. Казалось, будто твои очертания размываются, будто ты утрачиваешь цвет. И вдруг ты исчезла. Но кто знает, может быть, все это вздор, и ты живешь где-то в бесцветном доме среди равнодушных людей, занята чем-то ненужным, а иногда вспоминаешь обо мне и весело улыбаешься. Но разве это не равносильно исчезновению?
Я заметил, что еще ни одна глава моего рассказа не пестрила таким количеством вопросительных знаков; как стилистическое средство они ужасно утомляют, наигранная беспомощность. И ни один из них я не мог бы превратить в восклицательный знак или точку; я все больше теряюсь, а о тебе не знаю вообще ничего. Не знаю даже, существовала ли ты когда-нибудь. Наверное, пора закончить. Осталось упомянуть об одном.
Несколько месяцев назад я побывал в пустыне. Да, правда, в самой настоящей, совершенно не метафорической, официально признанной пустыне. Король маленького нефтяного государства пригласил меня развлекать его избранных гостей за гонорар, сумму которого не назову, чтобы не возбуждать зависть архангелов. Одному офицеру было поручено показать мне достопримечательности – задача не из легких, ведь никаких достопримечательностей в стране не было. Поэтому он посадил меня в «джип» и повез в пустыню. Путь оказался недолгим; пустыня окружала столицу, как море – туманный остров. Не успели мы чуть-чуть отъехать от города, как мне стало не по себе: мне показалось, что мы стоим на месте. Вокруг нас все точно застыло, замерло, оцепенело. Повсюду до самого горизонта простирались пологие холмы, из-под колес от красноватой пыли, от мелкого песка поднимался мягкий сухой жар. Офицер приказал шоферу остановиться. Мы прислушались: было абсолютно тихо. Я не представлял себе, что у безмолвия бывают оттенки, градации, переходы; в Айзенбрунне не было и вполовину так тихо; словосочетание «мертвая тишина», поверь мне, имеет смысл. Пахло песком. Высоко над нами большая птица провела в пространстве зигзагообразную линию. Меня окружало безбрежное ничто. Так вот оно какое: ничто.
Офицер похлопал меня по плечу и молча указал куда-то в пустоту, я проследил взглядом за его рукой. И там я увидел Это.
Мне показалось, будто небо в одном месте искривлено, выгнуто и образует какой-то странный изгиб. И в этой нише парили легкие красочные облака. Они сближались, сливались, скользили, трепетали, отдалялись друг от друга, рассеивались яркой поблескивающей дымкой, вновь сливались воедино, распадались отдельными цветными пятнами, вновь соединялись. «Мираж, – сказал офицер. – Фата-моргана. Красиво, правда?» Это было неописуемо. Чудовищная раскаленная пустота, и прямо в ней, заполнившие собой небо, призрачные световые эффекты. Красота, бессмысленно сияя, танцует на первозданно синем, вечно синем экране. В это мгновение я подумал о тебе, и мне сильнее и мучительнее, чем когда-либо, захотелось тебя увидеть. Где ты? «Красиво, правда? – повторил офицер. – Вам ведь нравится?» Я ничего не ответил. Я просто не смог ответить.
IX
Сначала довольно долго до меня не долетало ни звука. Потом зааплодировал кто-то в заднем ряду. Сильно и гулко, как будто рубил дрова; при каждом хлопке я вздрагивал. Потом еще кто-то, потом еще и еще, и наконец аплодисменты забарабанили, как проливной дождь. Я поклонился, без всякого подобострастия, не слишком низко, и прищурился от яркого блеска прожекторов, – напрасно, люди подо мной оставались безликими тенями. Аплодисменты не смолкали, я поклонился еще раз и неуверенно осмотрелся; я не мог уйти со сцены, как бы мне этого ни хотелось, овации приковали меня к месту, на котором я стоял, и не отпускали, я точно прирос к полу. А они все не стихали. И тут один из силуэтов вскочил и что-то прокричал, за ним еще один. Я снова поклонился, и, пока я стоял, склонившись, не поднимая глаз от деревянного пола сцены, шум внезапно усилился и перерос в оглушительный, многоголосый рев. Я испугался, невольно сделал шаг назад и только потом посмотрел на зал. Они встали! Все! Все люди в зале, насколько я мог видеть, уже аплодировали стоя. Со всех сторон, гулкие, отягощенные эхом, текли крики, вопли и свистки. Внезапно пол загудел от топота сотен ног: это зрители бурно выражали свое одобрение. Крики не смолкали! Гул все нарастал и нарастал. Я в замешательстве улыбнулся и еще раз поклонился. И еще раз. Но овации не смолкали.