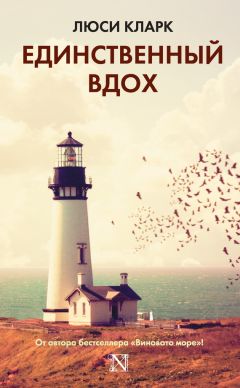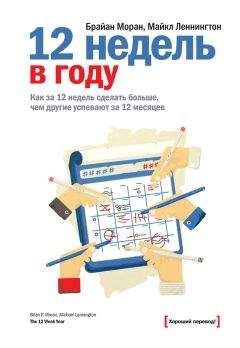Криста Вольф - Медея
Мы выплескиваем остатки вина из наших кубков в направлении солнца и не говорим друг другу, что каждый из нас при этом загадал. Я себе ничего не загадывал. Я думаю, тут пришли в движение такие колеса, которые никому уже не остановить. Руки у меня будто отнялись. Может, пожелать Медее такой же вот усталости?
Она говорит: — Так я пойду.
— Иди, — говорю я.
Я стою у перил и смотрю, как она пересекает площадь под моей башней, такую же безлюдную, как и весь наш город. Страх чумы вымел город подчистую.
8
Праздник утратил все свои ритуальные признаки и может плохо кончиться, поскольку грозит вернуться к своим насильственным истокам. Он уже не препона для разнузданных сил зла, а их верный союзник.
Рене Жирар. Святость и насилиеЯ жду. Сижу в каморке без окон, куда меня определили, и жду. Перед дверным проемом, что обозначен слабым проблеском света, стоят двое стражников, спиной ко мне. Там, в большом зале, они меня судят.
Теперь все ясно. Им нужна я. Нельзя мне было ходить на их жертвенный праздник, считает Лисса, это, мол, чистейшей воды гордыня. И я ей уже не возражала, как в то утро, когда ж это было — вчера? позавчера? третьего дня? — в то утро, когда я, проснувшись спозаранку, сочла, что, видимо, готова принять приглашение жриц Артемиды и в качестве гостьи, чужестранки, пожаловать на большой весенний праздник коринфян. Гордыня? Да нет, скорее в то утро я чувствовала в себе уверенность. Силу для примирения. Вот моя протянутая рука, думала я, с какой стати им ее отвергать. Сегодня я знаю с какой. Потому что свой страх они могут заглушить только яростью, которую на ком-то надо выместить.
Утро было дивное. Сон, развеянный пробуждением, словно отворил во мне плотину, в меня хлынула радость, без причин, но это ведь всегда так. Я отбросила овчину, под которой сплю с тех самых пор, что покинула Колхиду, легко вскочила со своего ложа, прохлада глиняного пола пронзила меня всю, я с наслаждением свела ноги вместе, потянулась и вступила в прямоугольник смутного света, сочившегося в дверь. Вот оно, бледное светило, полумесяц, чуть склоненная отверстая чаша, парящая в ночной сини, ущербная, как и мои уже далеко не юные годы, моя колхидская луна, одаренная силой каждое утро вытягивать солнце из-за края земли. И каждое утро одна и та же вечная тревога — по-прежнему ли верны противовесы, не нарушилась ли за ночь их выверенная соразмерность, не сместились ли предписанные пути, ибо даже ничтожный сдвиг сулит земле страшные времена, о которых так много рассказывают древние предания. Но на этот вот день добрые законы, сопрягающие движения светил, еще сохранят свою силу; с радостью смотрела я на ночной горизонт, постепенно озаряющийся дневным светом. По крайней мере, этот день будет таким же, как предыдущий и последующий, даже точнейшими инструментами моего Леукона нельзя будет измерить крохотный зазор, на который увеличится дуга, каждый день вздымающая солнце над Коринфом, пока не достигнет своей вершины и не настанет солнцеворот.
И меня тогда уже здесь не будет. Ни Гелиос, бог солнца, ни моя любимая лунная богиня даже не заметят моего отсутствия. Трудно, долго, но зато окончательно я рассталась с верой в то, что наши людские судьбы сопряжены с движением созвездий. Что там живут души, схожие с нашими, и определяют все наше бытие — пусть даже только тем, что своенравно спутывают нити, которые держат в своих всесильных руках. Акам, первый астроном царя, думает точно так же, как я, я знаю это с тех пор, как мы с ним переглянулись на жертвенном празднике. Мы оба с ним прикидываемся, но по-разному и из разных побуждений. Он представляется самым ревностным из всех служителей богов от глубочайшего, бездонного равнодушия ко всем и вся, я же, уклоняясь от участия в ритуалах сколько могу, храню молчание, когда уклониться невозможно, — из сострадания к нам, смертным, ибо человек, отринувший от себя богов, проходит через такие пределы ужаса, что не всякий их перенесет. Акам думает, что знает меня, однако самоослепление мешает ему узнать кого бы то ни было, а меньше всего самого себя. Теперь вот он хочет насладиться моим страхом. Придется мне запереть в себе страх. Только не прекращать думать.
В то утро, мельчайшие подробности которого мне теперь так дороги, я слышала, как Лисса за стенкой раздувает угли, как жадно похрустывает пламя оливковыми сучьями, которые она тщательно сложила, как она поставила на плиту горшок с водой и принялась то ли ударами, то ли шлепками взбивать тесто для ячменных лепешек. По камышовым половичкам, которые она сплела и от которых так отдыхают мои ноги, я прошла к ларю со своими пожитками, где хранится и белое платье, которое я носила только по большим праздникам: Лисса взяла его для меня, но в последнее время я почти его не надевала. Я вынула его, встряхнула, ощупала. Пожалуй, нитки с течением лет немного истончились, но ткань еще хорошая, неизношенная. Я невольно рассмеялась, осознав, что голая стою на половичке и сперва взглядом, а потом и ладонями ощупываю себя, свою уже не молодую, но все еще упругую плоть, расцветшую под перстами Ойстра, — уже не стройное, отяжелевшее в бедрах тело, груди, которые пришлось приподнять руками, однако кожа моя по-прежнему сохранила красивый смуглый оттенок, лодыжки и запястья все такие же сильные и тонкие, «как у горной козы», говорит Ойстр, а волосы снова густые и курчавые, как всегда. А еще совсем недавно я могла выдергивать их клочьями, и в козьем молоке, которым Лисса промывала мне голову, их была тьма, мы обе знали, нет снадобья от того лиха, от которого у меня полезли волосы после горячки и о котором я не могла говорить. Это была смертная боль — не только обо мне и не только о бедняжке Ифиное, чьи косточки в пещере эту боль во мне отворили, нет, боль была всеобъемлющая, она расползалась уходила вглубь, становилась все нестерпимей, ибо усугублялась ненавистью
Агамеды, предательством Пресбона, подлостью Акама, которые все вместе старались натравить на меня тупую ярость толпы. Перелом наступил, когда эта.толпа погнала меня по улицам. Я вдруг поняла, что хочу жить. А потом Ойстр. Ойстр, конечно, очень весомая причина. Я не впервые переживаю это любовное возрождение, вот и волос мой больше не падает. Теперь меня за волосы хоть через весь город тащить можно.
Окунув лицо, а потом и руки в лохань с родниковой водой, я надела платье, окинула взглядом его ниспадающую красу, повязала волосы белой повязкой жрицы, как и положено на праздничный день, и отправилась на половину Лиссы, которая, спиной ко мне, колдовала у плиты над первой порцией лепешек, чей пряный, слегка пригорелый дух всегда служил у нас в доме предвестьем праздника. Ведь для колхидцев и колхидок тоже наступал праздник весны, однако в этих краях наши обычаи, сколь бы строго, порой, пожалуй, даже слишком строго мы их ни соблюдали, дарят лишь слабый отблеск той торжественности, из которой прежде, в Колхиде, они и черпали свою жизненность. Но все же слабый отблеск лучше, чем совсем ничего, так чувствует большинство, а я в их чувства не встреваю.
Лисса обернулась, узрела меня в праздничном одеянии — и перепугалась. Я что, собралась сегодня вот так идти? Да. Но куда? На праздник Артемиды к коринфянам. Лисса молчала. Я взглянула на нее внимательней — она постарела немного, округлилась, но одновременно и окрепла. Ведь это она до последних мелочей хранит в своей памяти все наши, порой весьма сложные, ритуалы, передает их молодежи и с твердокаменным упорством настаивает на их соблюдении. Уж она-то никогда не одобрит, если кто-то из колхидцев, а уж тем паче я, направится на большой праздник к коринфянам, никакую причину для этого не сочтет убедительной и ни за что не согласится, что примирительное отношение нам, колхидцам, может пойти на пользу. С горечью она сказала: напрасно я от колхидцев удаляюсь, коринфяне все равно этого не оценят. Что ж, она оказалась права, а я ошиблась. И все же я и снова поступила бы так же. И снова кончила бы свои дни здесь, в этой жалкой конуре, где даже воздуха почти не осталось, отлученная от всех — от Лиссы и моих колхидцев, от Ойстра и Аретузы, от коринфян, которые теперь меня судят, и даже от Ясона и от наших детей, моих и его. Чему быть — того не миновать.
Аромат свежих лепешек приманил моих мальчишек, «как два жеребенка, учуявшие сено», сказала я, и они тут же объединились с Лиссой, «это тебе за сено», кричали они, и мы весело еще раз разыграли роли, которые столько раз играли, они трое против меня, голоса наши ссорились, а глаза смеялись. Только потом малыши разглядели мой наряд, умолкли, ходили вокруг меня, щупали ткань платья, восхищенно цокали язычками, мне это было приятно — долго ли еще суждено этим детям восхищаться своей мамой?
Потом они разодрали первую лепешку, набили ею рты, я тоже вдруг проголодалась и начала есть, оглядывая всю кухню и видя каждую вещь удивительно отчетливо, будто в последний раз, всю эту нехитрую утварь, глиняную посуду, горшки на полке, деревянный, весь в зазубринах, стол, такую родную Лиссу и особенно, конечно, детей, таких разных, словно они не от одной матери. Мермер немного покрупней, белокурый, голубоглазый, его Ясон с особым удовольствием называет «мой сынок», часами ездит с ним верхом, никак не перенося на него отчуждение, пролегшее между нами. И я тоже стараюсь ничем не омрачить радостное восхищение мальчика своим отцом, эту боль я умею держать в узде. Зато Ферет — мой мальчишка, плотный, смуглый и кругленький, как орешек, пахнущий свежей травой, густоволосый, темноглазый, отдающийся наслаждению едой, как и всякому другому занятию, как и любой игре, — всецело и беззаветно, с таким же сосредоточенным, отрешенным лицом, которое я так в нем люблю, с той же стремительной сменой света и тени в его чертах, с той же мгновенностью переходов от серьезности к веселью, от безутешного плача к безудержному хохоту. Они оба осаждали меня просьбами взять их с собой на праздник, мне пришлось прибегнуть к отговоркам. Вот уж кого я не хотела видеть рядом с собой на празднике коринфян, так это их.