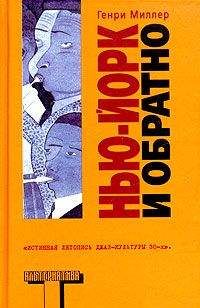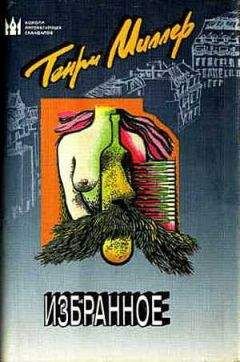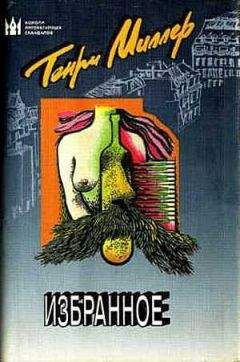Генри Миллер - Тропик Козерога
Мы взрослели, открывая для себя новые изыски, и прежние запахи ушли, сменившись одним-единственным достопамятным, достославным запахом: ароматом из влагалища. Точнее, это запах, остающийся на пальцах после игры с женщиной, ибо, если это не было отмечено выше, этот запах еще более приятный (может, потому что он несет с собой аромат прошедшего времени) чем запах самого влагалища. Но этот аромат, принадлежность взрослой жизни, — только слабый душок по сравнению с запахами детства. Он испаряется в воображении почти так же быстро, как и в действительности. Можно вспомнить многое о женщине, которую ты любил, но трудно вспомнить запах ее влагалища хоть с какой-нибудь достоверностью. Запах влажных волос, с другой стороны, — женских мокрых волос — гораздо более сильный и запоминающийся, а почему — не знаю. Даже сейчас, спустя почти сорок лет, я помню запах волос моей тетушки Тилли, промытых шампунем. Мытье шампунем происходило на вечно перегретой кухне. Как правило, это бывало субботним вечером, в порядке подготовки к вечеринке, что подразумевало еще одну замечательную вещь: приход кавалерийского сержанта в форме с красивыми желтыми шевронами, писаного красавца, который даже на мой взгляд был Слишком великолепен, мужествен и умен для такой дуры, как моя тетушка Тилли. Тем не менее, она сидела на табуретке у кухонного стола и сушила волосы полотенцем. Рядом стояла лампа с закоптившимся стеклом, а рядом с лампой — щипцы для завивки, сам вид которых вызывал у меня необъяснимое отвращение. Обычно она ставила на стол маленькое зеркало; я как сейчас вижу ее перекошенную физиономию, когда она выдавливала утри на носу. Она была безобразным, тупоумным созданием, а два огромных торчащих зуба придавали ей сходство с лошадью, когда она растягивала губы в улыбке. Еще от нее всегда воняло потом, даже после ванны. Но запах ее волос — этот запах я никогда не забуду, поскольку он каким-то образом соединился с моей ненавистью и презрением к ней. Этот запах, когда она сушила волосы, напоминал дух, извергаемый с самых глубин болота. Было еще два запаха: первый от мокрых волос, а второй — от тех же волос, но засунутых в сушилку и чуть подпаленных. Еще помню скрученные пряди волос с ее расчески, сдобренные перхотью и потом ее жирной, грязной кожи. Я любил стоять рядом и наблюдать за нею, размышляя, что это будет за вечеринка и как она будет себя вести. Наведя марафет, она спрашивала меня: «Ну как я выгляжу, правда замечательно?», и я, разумеется, отвечал «да». Но сидя в ватерклозете, который выходил в коридор рядом с кухней, при неровном свете тонкой свечи, поставленной на подоконник, я твердил про себя: «Ты выглядишь как уродина». Когда она выходила из кухни, я брал щипцы, принюхивался к ним, рассматривал со всех сторон. Они пленили и отталкивали меня — будто насекомое. Все в той кухне пленило меня. Я знал в ней каждый уголок, но так никогда и не освоился в ней. Кухня была одновременно местом общественным и интимным. Здесь меня мыли в большой ванной по субботам. Здесь мылись и прихорашивались мои три сестры. Здесь мой дедушка, стоя у раковины раздетым до пояса, умывался, а позже давал мне чистить свои башмаки. Здесь я стоял зимой у окна и смотрел, как падает снег, смотрел тупо, безучастно, словно я пребывал еще во чреве и прислушивался к шуму воды, которую спустила в туалете моя мать. Именно в кухне проходили тайные собрания, пугающие, ненавистные заседания, после которых все расходились с вытянутыми каменными лицами или заплаканными покрасневшими глазами. О чем они говорили на кухне — я не знаю. Но часто случалось так, что пока они тайно обсуждали, каким образом отделаться от бедного родственника, как поступить с завещанием, внезапно открывалась дверь и входил, гость, разрядив своим приходом тяжелую атмосферу. Действительно, все круто менялось, как будто они были рады некой внешней силе, избавившей их от мук затянувшейся тайной сходки. Как сейчас вижу: вот открывается дверь и входит нежданный гость. Мое сердце радостно бьется, скоро Мне протянут большой стеклянный кувшин и отправят в ближайшую пивную, а там я подам кувшин в маленькое окошко у семейного входа и буду ждать, пока мне не возвратят его полным мыльно-пенистой жидкости. На коротком пути от дома до пивной было несоразмерно много интересных вещей. И прежде всего парикмахерская прямо за нами, в ней работал отец Стенли. Почти всякий раз, выйдя из дома, я видел, как отец лупит Стенли правилом для бритв. От такого зрелища у меня вскипала кровь. Стенли был моим лучшим другом, а его отец — всего-навсего каким-то польским алкоголиком. Однако как-то вечером, выбежав с кувшином, я испытал громадное удовольствие. Я увидел, что какой-то другой поляк наступает на предка Стенли с бритвой в руке. Я видел, как его старикан выбежал на улицу через заднюю дверь, шея была залита кровью, а лицо побелело словно простыня. Он упал на тротуар перед парикмахерской, дергаясь и стеная, а я, помнится, постоял рядом несколько минут и ушел совершенно счастливый и довольный. Стенли держался во время потасовки в стороне, а после вызвался проводить меня до пивной. Он тоже был рад, хотя и немного испуган. Когда мы шли обратно, у парикмахерской уже стояла карета скорой помощи, отца Стенли поднимали на носилках, причем его лицо и шея были накрыты простыней. Иногда случалось так, что я выходил подышать свежим воздухом, а мимо вышагивал наш любимчик из хора отца Кэррола. Это — событие первостепенной важности. Мальчик был старше всех нас, и еще он был женоподобным, голубоватым созданием. Даже его походка раздражала нас. Как только я его замечал, весть распространялась во все концы, и не успевал он дойти до ближайшего угла, как бывал окружен компанией мальчишек, уступавших ему и в росте, и в возрасте, но не боявшихся передразнивать его и строить рожи до тех пор, пока он не пускался в плач. Затем мы набрасывались на него, как стая волков, валили на землю и рвали в клочки его одежду. То было недостойное занятие, но от него у нас поднималось настроение. Никто из нас не знал, что такое голубоватый, но все мы как один были против этого. В то же время мы были против китайцев. Был у нас один китаец, из прачечной на нашей улице. Мы с ним частенько встречались и поносили его так же, как женоподобного из церкви отца Кэррола. Он был точь-в-точь похож на изображение кули в школьном учебнике. Он носил черную курточку из альпака с отделанными тесьмой петлями, нечто вроде домашних туфель без каблуков и косичку. Лучше всего запомнилась его походка: хитрая, семенящая, женская походка. В ней было что-то иноземное, в ней таилась для нас угроза. Мы смертельно боялись его и ненавидели, потому что он проявлял полное равнодушие к нашим усмешкам. Мы считали, что он слишком невежествен, чтобы заметить наши выпады. Но однажды, когда мы пришли в его прачечную, он нам преподнес сюрприз. Сначала он принял грязное белье, потом с улыбкой вышел из-за прилавка, чтобы проводить нас до дверей. Не прекращая улыбаться, он схватил Альфи Бетча и надрал ему уши; он всем нам по очереди надрал уши, все так же улыбаясь. А потом улыбка сменилась устрашающей гримасой, и быстро, как кошка, он забежал за прилавок, вытащил длинный ужасный нож и начал размахивать им перед нами. Мы едва успели выбежать из прачечной. Когда мы завернули за угол и оглянулись, то увидели, как он стоит в дверях с ножом в руке, спокойный и миролюбивый. После этого случая никто из нас не отваживался зайти в прачечную; мы нанимали за десять центов младшего Луиса Пироссу, чтобы он каждую неделю сдавал и брал наше белье. Отец Луиса владел фруктовой лавочкой по соседству. В знак особой приязни он угощал нас подгнившими бананами. Стенли особенно любил подгнившие бананы, поскольку его тетка умела их вкусно жарить. Жареные бананы считались деликатесом в семье Стенли. Однажды в его день рождения устроили вечеринку, пригласив всех соседей. Все было замечательно до тех пор, пока не подали жареные бананы. Почему-то никто не захотел их попробовать, ибо это блюдо было известно только полякам вроде родителей Стенли. У нас считалось, что есть жареные бананы отвратительно. В наступившей затруднительной ситуации кто-то из юнцов предложил накормить жареными бананами безумного Вилли Майна. Вилли Майн был старше нас, но не умел говорить. Он мог произнести только: «Бьерк! Бьерк!»
Он говорил это во всех случаях. Посему, когда перед ним поставили бананы, он сказал: «Бьерк! Бьерк!»
и потянулся за ними обеими руками. Но там же был его брат Джордж, и Джордж обиделся, что его больному брату пытаются всучить жареные бананы. Поэтому Джордж начал драку, а когда Вилли увидал, что его брата одолевают, он тоже вступил в борьбу с возгласами: «Бьерк! Бьерк!».
Причем набрасывался он не только на ребят, но и на девочек тоже, и началось настоящее столпотворение. В конце концов, услыхав шум, из парикмахерской поднялся отец Стенли. Он захватил с собой правило для бритв. Взяв безумного Вилли Майна за загривок, он принялся охаживать его ремнем. Тем временем Джордж успел сбегать за мистером Майном старшим. Тот, хоть и был слегка навеселе, явился по-домашнему одетый и застал расправу, которую чинил над бедным Вилли выпивший парикмахер. Тогда он набросился на парикмахера и начал безжалостно дубасить его своими огромными кулачищами. Вилли, которого оставили в покое, ползал на четвереньках и поедал жареные бананы, рассыпавшиеся по всему полу. Он запихивал их в рот, будто козел, так быстро, как умел. Его отец, увидев, как он по-козлиному жует бананы, пришел в ярость, поднял правило и как следует отхлестал Вилли. Вилли при этом закричал: «Бьерк! Бьерк!», и все захохотали. Это охладило пыл мистера Майна, и он сменил гнев на милость. Он даже сел к столу, а тетка Стенли поднесла ему стакан вина. На шум потасовки собрались даже те соседи, которые не были приглашены, появилось еще вино, еще пиво, еще шнапс, и вскоре все были счастливы — пели, свистели, и даже детям разрешили выпить, и тогда безумный Вилли надрался и опять опустился на четвереньки, как козел, с воплями: «Бьерк! Бьерк!», а Альфи Бетча, который оказался очень пьян, даром что восемь лет, начал лупить безумного Вилли Майна втихаря, на что Вилли не замедлил ответить, и тогда мы все принялись лупить друг друга, а родители стояли в стороне и смеялись, подбадривая нас возгласами, и все вышло очень весело, принесли еще жареных бананов, никто из нас на этот раз от них не отказался. Потом было много тостов и опрокинутых бокалов, безумный Вилли Майн пытался спеть для нас, но смог спеть только: