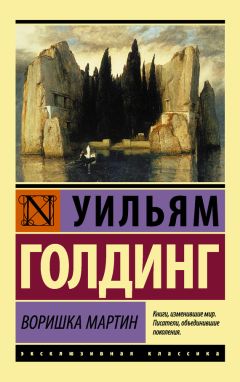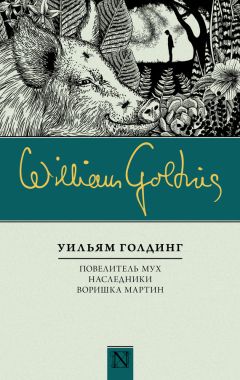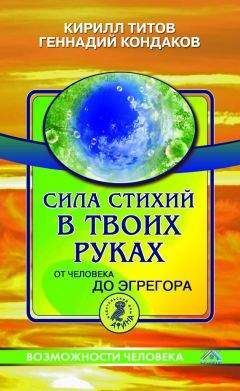Уильям Голдинг - Воришка Мартин
Скала тряслась, не переставая. Неожиданный холод ударил в лицо и пролился под ноги.
Следовало ожидать.
— Натаниэль!
Черный центр пытается вымесить себя, словно тесто.
Белизна раздробила тьму. Он барахтался в ощущениях. Везде вода и шум, рот приветствовал то и другое. Рот плевался и кашлял, а сам он пытался подняться в воде, которая доходила до колен, но ветер снова и снова сбивал с ног. Расщелина была похожа на море, на знакомый, упрямо возвращавшийся прилив среди скал. Ее, еще не так давно сухую, наполовину заполнила бурлящая вода с мелькающими клочьями пены. Ветер ревел, как поезд в тоннеле, повсюду текло, капало и заливало. Он карабкался из расселины, не слушая, что говорит рот, но вдруг он и рот стали единым целым.
— Проклятый задира!
Он поднял лицо над стеной, и ветер вдавил щеки внутрь. Хлестнул птичий град. Небо над старухой подпрыгнуло, побелело. Мгновение спустя свет погас, и небо обрушилось. Он не выдержал чудовищной тяжести и упал назад в воду. Давление отпустило, он встал на ноги, и небо упало снова. На этот раз дрожащие ноги выдержали и понесли его вдоль канавы, потому что тяжести воды не хватало, чтобы его сломить, а море в канаве доходило лишь до колен. Мир вернулся — серый, как шторм, изодранный взлетающими вымпелами; в него ворвалась музыка бури: грохот тимпанов, рев меди, слепящий звон струн. Он героически рвался вперед, от расселины к расселине, сквозь ливень и музыку, одежда болталась и рвалась, словно ветровой колпак, а ногти скребли по камню. Он и его рот кричали вместе сквозь завывания ветра:
— Аякс! Прометей!
Под пристальным взглядом старухи он брел среди черно-белых вспышек. Потом белизна поглотила голову в серебряной маске, и безголовые плечи скорчились на фоне неба. Он упал в белую расселину, прямо на книгу, носом в рисунок. Нерастворимая мерзость заполнила рот. Внезапно наступила тишина — и тяжесть. Его приподняло, бросило вниз и придавило к скале. На мгновение вода расступилась, и он увидел на фоне неба Наблюдательный пост, уже без старухи, и расколотые камни, изменившие прежние контуры.
— Она на скале. Выбралась из подвала на дневной свет. Сбрось ее!
Нож, прижатый к боку, впивался в ребра. Он достал его и раскрыл лезвие. Согнувшись, стал подкрадываться, где ползком, где вплавь перебираясь от щели к щели. Она стояла, прислонившись к поручням, но вдруг исчезла, и он прокрался вслед за ней в гримерку. Она оказалась на сцене, и он, спрятавшись за кулисами, заметил, что не одет для этой роли. Он и рот были единым целым.
— Переоденься! Стань нагим безумцем на скале посреди бури!
Когти впились в лохмотья и сорвали их. Мелькнули золотые галуны и гетры, медленно уносимые течением, словно горсть мусора. Нога, израненная, покрытая коростой, тощая, как палка, — музыка отпевала ее.
Он вспомнил о старухе и пополз за ней по Хай-стрит к «Красному льву». Возле Трех скал волны суетливо приветствовали его, и место, где он заметил красного омара, скрылось из вида. Он окликнул, но старуха не появилась. Должно быть, ускользнула в подвал — вон она, бесформенной грудой лежит в щели. Он поплелся следом, упал прямо на нее и принялся полосовать ножом.
— Будешь знать, как за мной охотиться! Зачем прогнала меня из подвала по всем этим машинам, постелям, пивнушкам! Ты за мной, а я — от тебя, за своим личным жетоном, всю жизнь! Истеки кровью и сдохни!
Он и голос были единым целым. Оба знали, что кровь, истекавшая из старухи, — просто морская вода, а изрезанная крошащаяся плоть — всего лишь драный клеенчатый плащ.
Голос превратился в лепет, брань, пение, кашель и плевки, набор бессмысленных звуков. Он старался заполнить каждое мгновение, сдавленный, задыхающийся, но центр начинал ощущать себя отдельно, потому что звука уже не хватало. Рот плевался, исторгая лишь часть смысла.
— Все эти галлюцинации, видения, сны, весь этот бред — они настигнут тебя. А чего еще ждать безумцу? Явятся тебе на каменной скале, на настоящей скале, завладеют твоим вниманием, и ты станешь просто-напросто психом.
В тот же миг возникла галлюцинация. Он понял это раньше, чем увидел, потому что над расселиной вдруг повис благоговейный ужас, обдаваемый молчаливыми брызгами.
Видение сидело на скале в конце расселины — он заметил его сквозь мутное окошко. Он увидел расселину целиком и побрел по воде, мертвенно ровной, когда шквал не стегал ее, разбрасывая пену. Подобравшись ближе, он поднял глаза — от сапог к коленям и дальше к лицу, остановившись на губах.
— Ты проекция моего собственного сознания. Но для меня ты точка внимания. Оставайся.
Губы едва дрогнули.
— Ты проекция моего же сознания.
Он фыркнул.
— Бесконечный круг… вокруг да около. Так может продолжаться до бесконечности.
— Тебе не надоело, Кристофер?
Он видел губы так же ясно, как слышал слова. В правом углу показалась капелька слюны.
— Такого бы я не смог придумать.
Глаз, ближайший к Наблюдательному посту, был налит кровью. Дальше, за скалой, краснела полоска заката, исчезая из виду. Поток брызг не прекращался. Можно смотреть либо на глаз, либо на закат — но не на оба одновременно. Он увидел нос, блестящий и коричневый, весь в порах. Разглядел на левой щеке каждую щетинку и подумал, что ее надо побрить. Ему никак не удавалось увидеть все лицо. Может, вспомнится позже. Лицо не шевелилось, оно никак не желало показываться целиком.
— Может, хватит?
— Чего?
— Жить. Держаться.
Одежда тоже расплывалась, пришлось изучать каждый предмет по отдельности. Клеенчатый плащ с оборванными пуговицами держится на одном ремне, под ним шерстяной пуловер с высоким горлом. Зюйдвестка сбилась на затылок. Руки лежат на коленях над гетрами. Сапоги — хорошие, блестящие от влаги, крепкие. Рядом с сапогами скала выглядела картонной декорацией, раскрашенным задником. Он наклонился, направив мутное окошко на сапог. Музыка и ветер стихли, осталась лишь черная блестящая резина.
— Об этом я пока не думал.
— Подумай.
— Какой смысл? Я сошел с ума.
— Расселина тоже расколется.
Он попытался было рассмеяться в налитые кровью глаза, но услышал лишь лающие звуки.
— На шестой день он сотворил Бога. Тебе даны только мои слова. По своему образу и подобию сотворил он Его.
— Подумай.
Глаз сливался с закатом.
— Нет, не могу.
— Во что ты веришь?
Чернота сапог, угольная чернота, чернота подвала.
Вынужденный ответ:
— В нить моей жизни. В выживание!
— Любой ценой.
— Повтори.
— Любой ценой.
— И ты выжил.
— Это везение.
— Это неизбежность.
— Другие тоже хотели жить.
— Смотря насколько.
Он уронил завесу плоти и волос, вычеркнул сапоги. Прорычал:
— У меня есть право выжить любой ценой!
— Где это записано?
— Ничто не записано.
— Подумай.
Скала из картона, заслонившая неподвижные черные ноги, разозлила его.
— Не стану я думать! Я сам тебя создал, создам и небеса!
— Уже создал.
Он глянул вбок на бурлящую воду, потом вниз — на свои костлявые ноги. Ощутил дождь, брызги и ледяной холод, сдавивший плоть. Пробормотал:
— Ну и пусть. Ты сам наделил меня правом выбора и всю жизнь вел меня к этим страданиям — потому что это мой выбор. О, да! Я все понял! Что бы я в жизни ни делал, я в конце концов оказался бы на том же самом мостике в то же самое время и отдал бы тот же самый приказ, правильный или неправильный. Но если бы я выбрался из подвала по поверженным, опустошенным телам, сделал бы из них ступеньки и сбежал от тебя, ты бы все равно мучил меня? Пусть я их поглотил, но кто дал мне рот?
— Твоими словами не ответишь.
Яростный взгляд.
— Я подумал! Я предпочитаю боль и все остальное.
— Чему?
Он пришел в неистовство и замахнулся на черные сапоги.
— Черной молнии! Уходи! Убирайся!
Сдирая кожу на руках, он барахтался на залитой морем скале.
— Несчастный безумный моряк посреди океана…
Он вскарабкался вверх по Хай-стрит.
Ярись, реви, потоп!
Пусть будет ветер, дождь и град, потоки крови,
Шторма и смерчи…
Обежал по кругу Наблюдательный пост, спотыкаясь о камни.
Тайфуны, ураганы…
Свет ложился на море полосами, оттеняя горные кряжи и долины. Чудовищные валы прокладывали путь с востока на запад в торжественной процессии. Под их тяжкой поступью одинокая скала казалась соринкой, но жалкий клочок суши, не боясь утонуть, рвался вперед, ослепительно белыми вспышками выжигая себе дорогу. Скала Спасения, словно нос корабля, врезалась в волны. Густое облако водяной пыли стояло над полубаком, небесные залпы утюжили мостик, отшибая чувства и дыхание. Уцепившись за квадратную плиту, лежащую там, где прежде стояла старуха в серебряной маске, безумный всадник летел навстречу волнам и ветру. Снова заиграла далекая музыка, изо рта полились звуки: